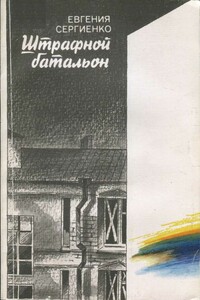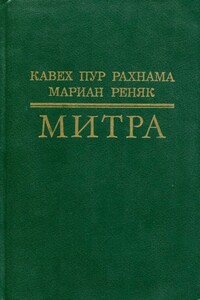Знамя девятого полка | страница 54
– Ты знаешь меня, я знаю тебя,– неопределенно сказал Третьяков.– На что тебе сейчас знать больше? Поживем – увидим. Понял? Иди, а то хватятся тебя.
После этого случая Третьяков не раз замечал на себе сочувственные взгляды ребят из двадцатого номера, и в лагере его все чаще стали называть то «батей», то «дедом».
А побег все-таки задерживался.
Капитан Хазенфлоу вызвал Третьякова к себе еще раз.
– Садитесь. Курите. И слушайте! – в темпе своей обычной веселой деловитости отрубил он и, помолчав, пока бригадир закуривал, спросил в упор:
– Диабаз от прочих камней можете отличить? С геологией дело имели?
«Ой, опять что-то тебя поджимает»,-подумал Третьяков и в тон беспокойному немцу отрубил:
– Приходилось…
Не говоря ни слова, Хазенфлоу стал что-то размашисто писать в своем широком блокноте. С треском вырвал исписанный листок и бросил его через стол Третьякову.
– Это на всякий случай. Вам придется сходить в ближние горы, поискать новый карьер. Вводные данные: диабаз, расстояние до моря– максимум три километра, возможность поставить канатную дорогу. Ясно?
– Не совсем.
Судьба как будто бы сама взялась помогать их пятерке, но каторжник, радующийся тому, что ему ежедневно придется ходить два лишних километра под конвоем, был бы слишком подозрительной фигурой, и Третьяков повторил, с полминуты подумав:
– Вернее, совсем не ясно. Чем, например, плох разрабатываемый карьер?
Хазенфлоу коротко хохотнул и вдруг порывисто потянулся, широко в стороны разбрасывая руки. Служебный кабинет стал ему тесен; и – опытный пловец на больших просторах – он словно вырывался из его казенной узости.
– Масштабы, масштабы, уважаемый! Какой это к черту карьер? Это щель, и мы возимся в ней, как клопы. Словом, я верю в ваш хозяйский глаз. Смотрите, не потеряйте мою записку.
…Андрей Федорович не спеша шел ложбинкой. Дважды он поймал себя на том, что без особой нужды оглядывается – так непривычно еще было отсутствие конвоира за плечами.
Опавшие листья берез шуршали под ногой. В ложбинке было накурено легким сизым туманом, наползающим с моря. Пахло прелью и увядающим лесом, осенью.
Вдали замирал дробный стукоток каменоломни, ревели перегруженные моторы пятитонок. Комиссар поморщился.
Каждый лишний день работы на врага лежал и на его совести.
Немец в пятнастом маскхалате бесшумно поднялся из-за чащи молоденьких елочек. Его черный автомат чем-то напоминал слесарную дрель.
– Руссиш, хальт! – лениво сказал он.
Третьяков молча протянул ему записку начальника лагеря капитана Хазенфлоу.