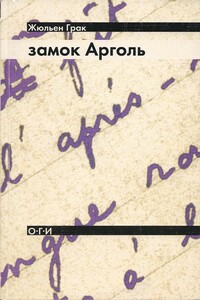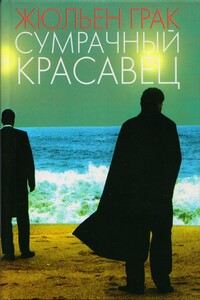Побережье Сирта | страница 52
Очень тяжелая и очень мрачная музыка, плохое освещение и дурманящие ароматы выбивали меня из колеи. Мне показалось, что я медленно прихожу в себя, словно после падения в открытый люк, и что мои органы чувств начинают функционировать не сразу, а один за другим: сначала меня куда-то влечет одна лишь нить колдовской мелодии, а потом я расширяюсь до предела, наполняясь будоражащими ароматами. Постепенно я привыкал к сумраку, и снова меня поразили и вольные позы, и жесты пар, привлеченных сюда, как можно было предположить, надеждой на относительное уединение. Утонченная, таящая в себе какой-то вызов атмосфера, скрытый чувственный магнетизм давали о себе знать то тут, то там, обнаруживали себя то в линии слишком покорно склоненного затылка, то в слишком тяжелом взгляде, то в набухшем глянце приоткрытого в полутьме рта. Повсюду пробуждались, намечались едва-едва заметные движения, некоторые из них обретали заметно более четкое выражение, чем другие, но при этом казалось, что идут они из глубины сна и напоминают жесты спящего. Однако посреди этого бодрствования морского грота я вдруг отчетливо, как дыхание на затылке, почувствовал некое присутствие, более тревожное и более близкое. Я быстро осмотрелся. У меня возникло такое ощущение, словно я ткнулся носом в закрытую дверь: рядом со мной, едва не касаясь меня, находилось обращенное в мою сторону молодое женское лицо. И по той откровенной, царственно равнодушной к скандалу жадности, с какой ее глаза овладели моими глазами, я понял, что отвернуться я уже не смогу.
В этих смотрящих на меня зрачках было нечто такое, что всплывает из самых потаенных, из самых ночных глубин. Эти глаза не моргали, не сверкали, даже не смотрели — их глянцевая влажность напоминала не взгляд, а скорее створку широко раскрытой в ночи ракушки, — они просто пребывали в открытом состоянии, держались на странной, белой лунной скале, обрамленной завитками из водорослей. Эти бездны спокойствия посреди похожих на полегшие хлеба разметанных во все стороны волос словно раскрывались навстречу звездному небу. Губы тоже жили, двигались и, как от нажатия пальцем, как бы втягиваясь вовнутрь — маленький, голый, шевелящийся, как медуза, кратер. Внезапно стало очень холодно. И вокруг этой головы медузы какими-то порывистыми движениями колыхалось нечто причудливое, словно кто-то перебирал одно за другим перепутанные кольца змеи. Голова покоилась в углублении плеча, скрытого темной тканью. Две руки служили ей пелериной, оцепеневшим и одновременно трепещущим от удовольствия ожерельем и черпали, как в наполненном корыте, в глубине своего корсажа. Все это под огромным давлением поднималось из глубин на поверхность, поднималось к своему собственному небу безмятежности, как полная луна сквозь листву.