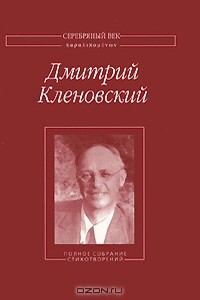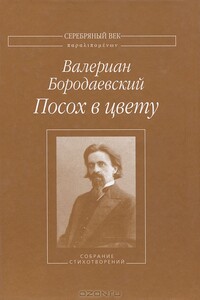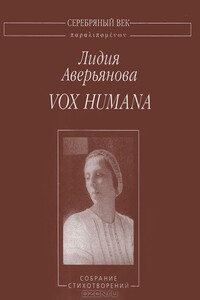Танец души | страница 39
Достоевский смыкается с Блоком в поэме «Бес». Идея поэмы несомненно восходит к роману Достоевского, но пролог оформляется блоковской интонацией из «Пузырей земли»:
(«Болотный попик»)
(«Бес»)
На этом русские предпочтения Щировского, кажется, исчерпаны. Шинель Поприщина – скорее, чисто петербургский образ, нежели знак воздействия гоголевской прозы. Есть также намеки на сборники символистов: «попрощаться со звездным кормилом под Аполлоновых лет лебедей» — нечто из Вяч. Иванова («Кормчие звезды») вкупе с И. Анненским.
Кроме сознательного отбора того, что дорого и близко, поэт обязательно находится под воздействием того, что в его эпоху находится на слуху. Таким шумовым воздействием на всех без исключения поэтов 1930-х годов обладали посмертно растиражированные строки Маяковского. Щировский невольно захватил своим слухом некоторые слова и образы чуждого ему пролетарского поэта. Так, например, «Туберкулезной акации ветка, Солнце над сквером…» – парафраз на тему «По скверам, где харкает туберкулез…» из вступления к поэме «Во весь голос». Да и сами строки о «садах двадцать первого века, где не будут сорить, штрафовать» – что это, если не хрестоматийный образ будущего как «города-сада», в котором, повинуясь призыву «Окон РОСТа», сознательные граждане будут соблюдать одиннадцатую заповедь: «Будьте культурны – плюйте в урны!»? Правда, и в этом случае Щировского трудно упрекнуть в неразборчивости, поскольку город-сад будущего каким-то образом соединился с его собственным образом садов прошлого («облик сада, где в древнем детстве я играл»). То есть в образе «садов двадцать первого века» читателю этого века слышится в одинаковой степени и отзвук романтических мечтаний Маяковского, и собственное слово поэта-ретрограда Щировского о возвращении его детского Эдема.
Из европейских героев в круг предпочтений поэта входят шекспировские Тарквиний, Ромео и Гамлет, испанско-пушкинский Дон Гуан, поддельные песни Оссиана (которыми вдохновлялся и Мандельштам), дантовский Паоло, принц из сказки Ш. Перро. По большей части все эти образы – вариации на одну и ту же тему. Это тема вины героя перед некоей женщиной, которую он полюбил, но вместо обещанного счастья обрек на гибель (Лукреция, Джульетта, Офелия, Донна Анна, Франческа) или на страдание (Золушка-Сандрильона). К этой же теме, кстати говоря, следует приписать и русские образы Ленского и Чацкого. Особое место в сознании поэта, бесспорно, занимает рассказ Э. По «Лигейя» – история женщины, переселившейся после смерти в новое тело (что в чем-то созвучно мистическим настроениям раннего Щировского). На периферии предпочтений остаются В. Скотт (Айвенго), Андерсен, Дюма, списком перечисленные в поэме «Ничто».