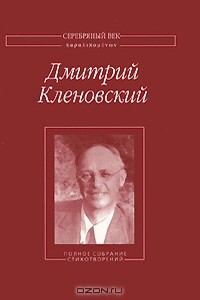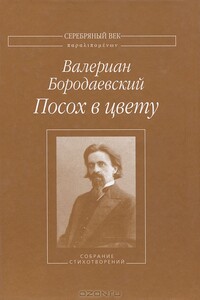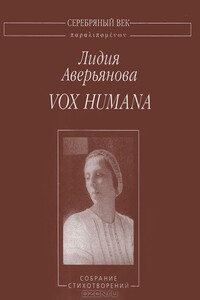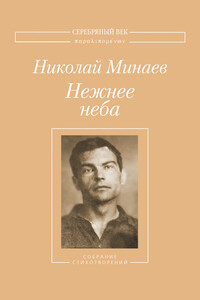Танец души | страница 36
Круг чтения Щировского, судя по доступным стихотворениям, охватывал только русских и европейских авторов. Пушкин представлен у него образом Владимира Ленского. Сам поэт, несомненно, примерял на себя жребий юноши-стихотворца, погибшего от пули друга во цвете лет:
(«Есть в комнате простор почти вселенский…»)
(«Отъезд, вино…»)
Но не только буквальное упоминание имен Ленского и Ольги следует отнести к пушкинской теме в творчестве Щировского. Сами размышления поэта о возможных вариантах своей судьбы («Быть может, это так и надо…») – то ли жизнь в мещанском кругу комсомола, то ли расстрел по доносу любящего соседа – отправляют читателя к пушкинским размышлениям о потенциальных судьбах Ленского после его гибели от руки Онегина.
Если Ленский был юношеским двойником поэта, то в поздние годы Щировский примерил к себе образ Чацкого. За отъездом Чацкого он чувствует желание грибоедовского героя погибнуть от любви. Поэтому заключительные строки «Вальса Грибоедова» звучат как самозаклинание:
Следующее значительное имя – Баратынский. Его строки стали эпиграфом к стихотворению «Убийства, обыски, кочевья…», его именем заканчивается поэма «Ничто»:
Цитируемые Щировским слова относятся к стихотворению «Старик» (1828), в котором 28-летний Баратынский оплакивает свою молодость и уходящее ощущение свежести бытия. Щировский также рано почувствовал себя стариком и вслед Баратынскому нашел для своей поэзии «язык молчания о бывшем и отпетом» («Акростих»; ср. с теми же мыслями Баратынского в стихотворении «Предрассудок»). Как и Баратынского, его привлекал зов прошлого и беспокоили размышления о скорой смерти: