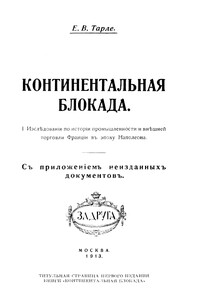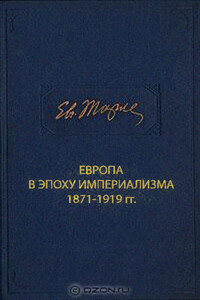Партизанская борьба в национально-освободительных войнах Запада | страница 83
Информация о военном положении в Палермо, доставленная неаполитанскому правительству, рисовала это положение в самом мрачном свете. 6 июня Ланца вынужден был с разрешения короля подписать условия капитуляции, обязывавшие его войска в кратчайший срок эвакуироваться морем в Неаполь.
Лишь с этого момента все оставшиеся в живых гарибальдийцы «Тысячи» надели, «в обязательном порядке», красные рубашки. 13 июня датирована последняя прокламация Гарибальди, начинавшаяся словами: «Альпийские стрелки». 18 июня Медичи высадился в заливе Кастеллямаре с 3500 отлично вооруженных на этот раз людей, составивших «вторую экспедицию». Они присоединились к остаткам «Тысячи», образовав вместе с ними Национальную армию в Сицилии, переименованную при переходе на материк в Южную армию.
Гарибальди воспитывал эту армию в тех принципах патриотизма, демократизма, боевого содружества, непоколебимой выдержки, дисциплины, которые нашли свое классическое выражение в его речи, обращенной к солдатам римской республики, и стали традицией гарибальдийской «Тысячи»:
«Бойцы! Все что я могу вам предложить, — это усталость, опасности, сражения и смерть; холод во время ночлегов под открытым небом и зной под палящим солнцем; никаких квартир, ни боевого, ни продовольственного снабжения, но форсированные марши, опасные караульные посты и непрерывные штыковые бои против вооруженного артиллерией врага. Те, кто любит Свободу и Родину, — следуйте за мной!»…
После победы в Палермо восстали почти все города Сицилии. За Сицилией поднялись и некоторые города Италии. Гарибальдийская «Тысяча» в течение нескольких месяцев проделала свой легендарный поход, приведший к освобождению Италии от иноземного гнета и к ее объединению.
С. Никитин
Из прошлого партизанской борьбы в Болгарии
Начало XIX века было критическим периодом в истории султанской Турции. В развитии этого кризиса причины внутреннего порядка сталкивались с внешними воздействиями.
Социально-экономическое развитие подвластных Турции народов обгоняло развитие турецкого народа, который оставался в условиях застывшего феодального режима. Южные славяне и греки, державшие в своих руках значительную часть торговли Турецкой империи, развившие ремесла, были действительными двигателями прогресса, носителями цивилизации внутри страны. Но условия, в каких они жили и выполняли свою цивилизаторскую роль, были весьма тяжелы.
В начале XIX века, как и после завоевания Болгарии турками, христианское население страны (райя) делилось на бесправное и привилегированное. Бесправная райя была обязана платить многочисленные и тяжелые налоги. Это — прежде всего, личный налог — харач, десятина, а также испенч — принудительный набор через каждые 5 лет 10—12-летних мальчиков в янычары. Их навсегда отнимали от родных и обращали в мусульманство; кроме того, существовала рабочая повинность (барщина) и ряд других. Бесправная райя была лишена политических прав и находилась в полной зависимости от турецкой мусульманской администрации. В иных условиях жила привилегированная райя. Обычно это были целые села, выполнявшие те или иные обязанности и освобожденные за это от уплаты налогов и повинностей, падавших на бесправную райю. Жители городов Сливен, Котел, Ямбол, ряда сел (в том числе Панагюриште) принадлежали к войниганам. Из их среды формировались отряды вспомогательных войск (в то время как бесправная райя была лишена права носить оружие), а также дружины, выполнявшие работы по постройке укреплений. В поселениях войниганов не могли жить турки, жители пользовались самоуправлением и имели своих воевод. Население сел, расположенных в горных проходах, несло охрану этих проходов, оно обязано было пресекать попытки грабежей, уничтожать разбойничьи шайки. Граничары охраняли границы, конвоировали транспорты, пленных и т. д. Сокольники (соколари) вместо всех налогов и податей должны были поставлять соколов. Существовали и некоторые другие группы среди привилегированной части христианского населения Турции.