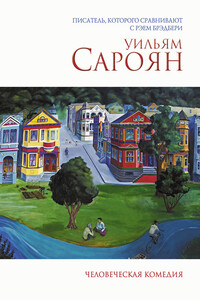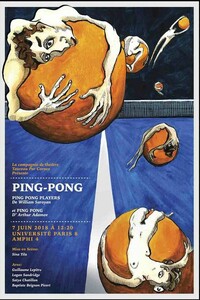В теплой тихой долине дома | страница 63
— Ну и ну! Вот так штука!
— Знаешь, я рада, что ты так сделала, Эмми, — сказала миссис Селби. — Я бы сделала то же самое. Расскажи мне о них.
Но Эмми была так счастлива, что могла только плакать, а миссис Селби все смеялась громким, горячим смехом, и мне от этого стало как-то очень приятно, хотя я не был ее сыном, а только племянником. Было ужасно приятно слушать, как она смеется, а Эмми плачет.
Поезда
Часами простаивал он у окна, в каком-то полусне, забыв обо всем, мучительно встревоженный ощущением бездомности, тем более удручающим, что он был дома: в той самой теплой долине, где появился на свет, где прожил первые семнадцать лет своей жизни. Дома уже четыре месяца, с июня по сентябрь, — и все бездомный, несмотря на блаженное летнее тепло, несмотря на памятные места, видеть которые вновь было наслаждением, несмотря на давно знакомые лица, которые не слишком изменились даже после долгих странствий во времени, несмотря на летнее небо, на летние дни и ночи и запахи лета, которые, где бы он ни был, никогда не забывал и от которых, стоило ему вновь вдохнуть их сердцем и душой, сердце его исполнилось радости, а душа воспрянула, несмотря даже на нелепые шумы нелепого города — дождевалки на жалких газонах, свистки торговцев жареной кукурузой, уличный шум и утром, и в полдень, и в вечерние часы пик; и потом, когда люди расходились по домам и улицы становились прохладными и пустыми, — он оставался все таким же бездомным, хотя дом всячески проявлял себя, хаотично и порою даже курьезно, повсюду, в любое время, вокруг него и в нем самом; он чувствовал себя неприкаянным, и это состояние неприкаянности вызывало глубокий душевный разлад, оцепенение, апатию, эту сонную одурь, эту неспособность работать.
Ребенок вернулся домой из чужих краев, чтобы снова стать ребенком; он распахнул дверь родного дома, и вошел, и растянулся на домашней своей постели, и поспал, и проснулся, и опять он бездомный. Родной дом — и все равно не дом. Да, он дома: все на своем месте, и все равно он здесь чужой. Чужой и одинокий. И мало-помалу глубокое безмолвие овладело его душой, так что когда он спал, это был не сон, и когда просыпался, это было не пробуждение. Оказалось, что ему трудно говорить, и не только с окружающими, что обычно было для него проще простого, но и в своей работе, на холсте, кистью; ни для кого в родном городе он не находил нужного слова, и никак не мог передать эту многозначность безмолвия, никак не мог добиться соразмерности, точности, чистоты и ясности на холсте. Вечерами он выходил и все смотрел, с кем бы заговорить, долго бродил по улицам, сидел в кафе, выпивал, а потом молча возвращался в свои две комнаты, и это он, который в подпитии такой словоохотливый, такой приветливый и веселый. Однажды он поднялся в дешевый бордель, прошел с девицей в комнатушку, глуповато уставился на нее, громко рассмеялся, попросил извинения — поклоном и красноречивым взмахом руки, дал ей три доллара вместо двух и, пошатываясь, спустился по лестнице.