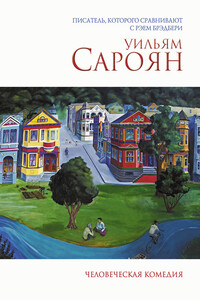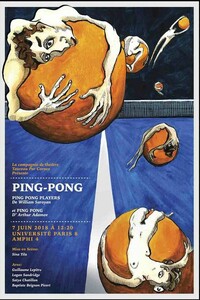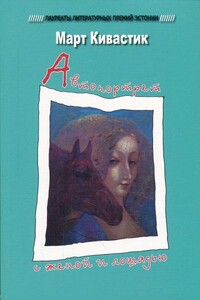Меня зовут Арам | страница 64
— Бедные малютки, — говорил он обычно. — Бедные малые сироты. — Или, если буквально: — Бедные опаленные сироты.
«Бедные опаленные» — это перевести невозможно. Однако нет ничего более печального на свете, чем «бедный опаленный».
Вероятнее всего, однажды в кофейне дядя Хосров и заприметил маленького араба, сочтя его человеком достойным. Может быть, араб сидел за «тавли», с глазами, полными умудренности и печали, и над доскою виднелись его широкие плечи и его темная мальчишеская голова, а потом, когда после игры он поднялся из-за стола, дядя Хосров увидел и то, что он ростом не больше мальчика.
А может быть, этот человек зашел в кофейню и, не зная дяди Хосрова, сыграл с ним партию в «тавли» и проиграл ему и вовсе не жаловался; видно, он сразу понял, кто такой мой дядя Хосров, хотя ни у кого не опрашивал. Возможно даже, он не молился игральным костям.
С чего бы там ни возникла их дружба, на чем бы ни держалось их взаимопонимание и общение, так или иначе они время от времени заходили к нам вместе и были желанными гостями.
Когда дядя Xocpов в первый раз привел к нам араба, он счел излишним его представлять. Моя мать решила, что араб наш соплеменник, может быть, даже какой-нибудь дальний родственник, хотя он был темнее большинства представителей нашего рода и пониже ростом. Но это, конечно, не имело для нее такого уж значения, — ну, разве что глазу твоему всегда бывают приятны люди твоего же роду и племени, с какими-то особенностями, отличающими их из поколения в поколение.
В первый день араб сел только после того, как моя мать несколько раз пригласила его располагаться у нас, как дома.
«Уж не глухой ли он?» — подумала она.
Нет, было видно, что он слышит; он прислушивался очень внимательно. Может быть, он не понимал нашего наречия? Моя мать спросила, откуда он родом. Он не ответил, а только смахнул пыль с рукава. Тогда моя мать спросила по-турецки:
— Вы армянин?
Это араб понял и по-турецки же ответил, что он араб.
— Бедный опаленный сиротка, — прошептал мой дядя Xocpoв.
На какое-то мгновение моей матери показалось, что, арабу хочется поговорить, но скоро стало ясно, что для него, как и для дяди Хосрова, ничего не было более тягостного, чем беседа. Он мог бы поговорить, будь в этом необходимость, но ему, верно, просто нечего было сказать.
Моя мать подала мужчинам табаку и кофе и кивнула мне, чтобы я ушел.
— Им нужно поговорить, — сказала она.
— Поговорить? — удивился я.
— Им нужно побыть одним.