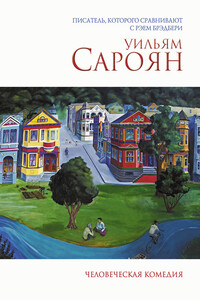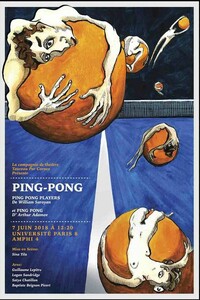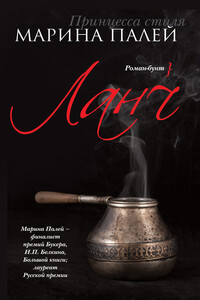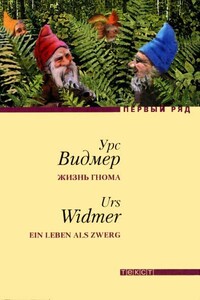Меня зовут Арам | страница 27
«Что за язык! Сколько пыла! Какая мудрость! Какое величественное громогласие!» — думали они.
Фермеры, собравшиеся в одной из трех городских церквей, трепетали от благоговения и, смахнув слезу, жертвовали столько денег, сколько могли.
Если же сбор предназначался для дела, особенно близкого душе фермера, он вставал и, доставая деньги, выкрикивал на весь зал:
— Мкртыч Касабян с женой Араксией и тремя сыновьями — Гургеном, Сираком и Товмасом — пятьдесят центов! — И садился под гром аплодисментов, относящихся не столько к его словам, сколько к великолепной манере выражаться, прекрасному и драматичному произношению чудесных имен своей родины: Мкртыч, Араксия, Гурген, Товмас!
Жители долины Сан-Хоакин соревновались друг с другом в подобных выступлениях и пожертвованиях. Если земледелец не вставал и не объявлял публично о даре, как то подобает мужчине, — значит, парень никуда не годился. Ни денег, ни сердца, чтобы встать и, отбросив в сторону робость, выразить трепет своей души.
Из-за этого состязания какой-нибудь фермер, у которого не нашлось денег на пожертвование, но который всей душой порывался внести свою лепту, год за годом чуть со стыда не сгорал на собраниях, пока, наконец, с наступлением лучших дней не вставал и, грозно оглядывая аудиторию, не выкликал:
— Прошли дни бедности для Пампалонянов родом из славного города Тигранакерта — пятеро братьев Пампалонянов — двадцать центов! — После чего возвращался домой с гордо поднятой головой и ликующим сердцем. Бедность? Была когда-то. Но не теперь. И пятеро рослых мужчин подталкивая своих сыновей, переглядывались с чувством семейной гордости и с умилением, довольные тем, что не уронили себя в глазах соотечественников.
Но больше всего гордился фермер, когда его сын где-нибудь в школе, в церкви или на пикнике вставал с места и произносил речь.
— Каков парень! — кричал, бывало, фермер своему восьмидесятилетнему отцу. — Послушай-ка его. Это Ваан, мой сын, твой внук, одиннадцати лет от роду. Он говорит о Европе.
Старик качал головой и диву давался — одиннадцать лет мальчугану, а такой серьезный и столько знает, и говорит про Европу. Старик едва ли представлял себе, где находится эта Европа, хотя, кажется, видел ее, когда по пути в Америку проезжал Гавр, тот, что во Франции. Может, этот Гавр и есть Европа, но что же такое могло вдруг случиться с Гавром, что так сильно разволновало мальчишку? — А-а, — зевал старик, — не моего ума это дело. Не очень-то я помню. А город был приятный, у моря, с пароходами.