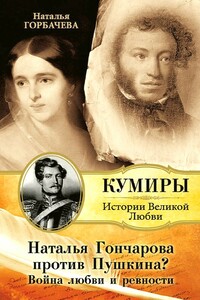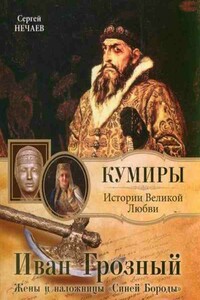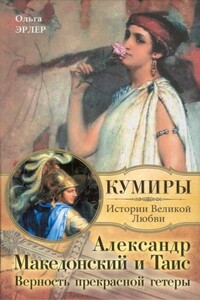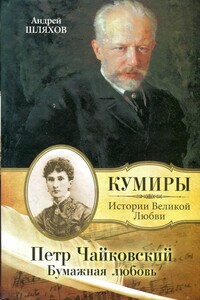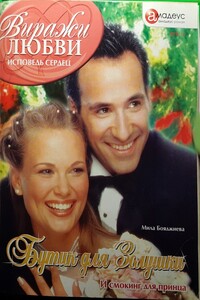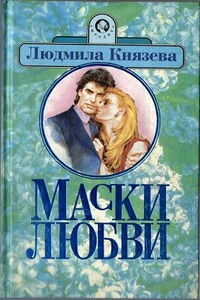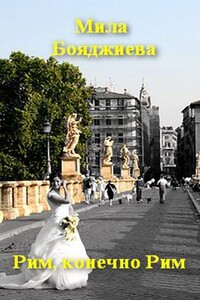Марина Цветаева. Неправильная любовь | страница 14
Она была щедро одарена с ранних лет памятью, вниманием, интуицией, глубинным опытом познания, словно проживала не первую жизнь. Она слишком остро ощущала идущие к ней от мира токи, воспринимала сущее многомерно. Она понимала свою особость, ценила ее и резко сопротивлялась попыткам взрослых «сформировать» ее по общему шаблону, «встроить» в норму.
В остроте ощущения бытия, жадности «проживания всех жизней» ей было дано много больше, чем обычному человеку. Свою «многомерность в мире мер» Марина несла как корону. Одна, иная, редко понятая, настороженная, готовая к отпору. Упорно и гордо она несла кем-то Высшим выданную привилегию и повинность Призвания.
Призвания к служению Поэзии. А значит — неистребимую потребность вести диалог с высшими силами, как их не назови: судьбой, звездами, Абсолютом, Богом. Все ее существо, все ее творчество — противоборство несопоставимого — света-тени, добра-зла, пламени и льда, равнодушия-страсти.
В Марине-поэте и человеке удивляет сочетание, казалось бы, невозможного: скрытности, ранимой застенчивости и поразительной открытости в поэтическом выражении своей личности. Как бы одинок, закомплексован, зажат в собственной скорлупе ни был поэт — творчество и есть тот запал, который взрывает все запреты, ломает все стены межличностных перегородок. Творчество — это свобода неординарности. Инструмент и материал демонстрации всего, не вписывающегося в норму: чрезмерность желаний, бури страстей, необъяснимости поступков, вызывающей дерзости, попрание законов морали, нравственности. Отсюда — из стремления Цветаевой объять все — ее неутолимая жажда страсти, впечатлений, андрогинность («Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное, — какая жуть! А только женщин мужчине или только мужчин женщине, заведомо исключая необычное родное, — какая скука!»).
«Будьте как боги! Всякое заведомое исключение — жуть!»
«Всякое заведомое исключение — жуть…» От этой всеядности экспансия в иные сущности, почти хищная охота за пониманием своего сложного, безмерного, жаждущего быть понятым Я.
В отличие от множества талантливых творцов, бесконечно ищущих колею своего главного призвания, Маринин путь был предопределен изначально. Призвана в цех Поэтов еще до рождения, явилась на свет уже со сложившимся механизмом особости.
На четырехлетнего ребенка обрушилась лавина слов, требующая складывания в созвучия рифмы. Неотвязные мячик-спрячик, галка-моталка, стол ушел, слон-стон. Чуть позже бездна чужих слов — уже сочиненных, магически сопряженных, наполовину непонятных, наполняющихся от этой непонятности особым смыслом, гипнотизировала девочку. Проваливалась в книгу, как в омут, да не в детскую, а в запретную, взрослую. Из хранящегося в комнате старшей сестры Леры собрания сочинений Пушкина вырастает «мой Пушкин» — наполовину угаданный, придуманный. Обожаемый, тайный — ее. А чей же? Раз за разом Марина переписывает околдовавшие ее строки «Прощай же море». Красиво, без помарок, в свою тетрадку. Как бы навсегда присваивая их. С шести лет она начала писать стихи сама и прятала от взрослых. Они считали эти словосложения обычной ребячьей забавой, а маранье бумаги — напрасной тратой времени, которое, как и бумагу, лучше бы использовать с толком. Например, на уроки музыки — мать серьезно вознамерилась сделать Марину пианисткой. Звуки, извлекаемые пятилетней крохой из рояля, были куда убедительней «испачканных» листов. В воспитательных целях направленность занятий Марины формировалась волевым усилием: играть — «да», писать — «нет». «Все мое детство, все дошкольные годы, вся жизнь до семилетнего возраста, все младенчество — было одним большим криком о листке белой бумаги. Подавленным криком», — вспоминает Цветаева через тридцать лет. Наверно, бумага у девочек все же была, но боль непонятости, отсутствия поощрения главного дара осталась.