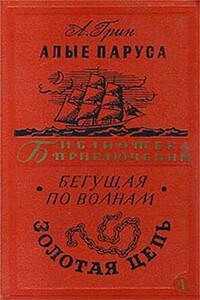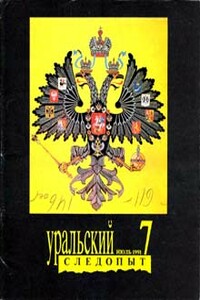Тодор из табора Борко | страница 25
Тревожно кричали чибисы. На весь свет по безлюдью разлилось духовитое цветение медуницы. Наполнились луга от дна до голубой каймы холмов пчелиным гулом.
Вечерами левой рукой Тодор разводил костер, варил кулеш на ужин, чистил бурачки. Овцы в жердяном загоне белым облаком сбивались, отражался огонь в кротких скотьих очах. И глядя на тот огонь, печалился Тодор о родичах своих, которые в темноте и холоде кочевали. Потому что грел котелок у кошары огонь не цыганский, не человечий - овечий огонь. Господь к скотам милостив, но с собой такого огня не унести в туеске.
Прогорал костер, алыми жужелками ползли сполохи по головешкам. Тодор считал звезды до полуночи - да все сбивался со счета. Незаметно менялись над ним начертания звездных течений. К рассвету падала на сизые пастбища медяная роса. Зернами гранатными рдели во мгле Стожары. День за год тянулся, ночи без счету. Яг невесть где пропадал, разве на часок-другой забегал, болтал, что под корягой у реки живет крыса - из себя красавица писаная. Вот и повадился он с ней без огня да без опары оладушки печь. Похвалится, на задних цирлах пофигуряет, и юрк в траву - оладушки, мол,стынут, недосуг!
Близилось равноденствие.
Не спалось Тодору. Сердце билось. Как сумерки - что за притча, не сходится овечий счет. И ладно бы - убыток, а наоборот - приблудная овца мерещится.
Дремлет смирно белорунная дюжина - а нет да нет, как из под земли, покажется - тринадцатая овечка белее-белого, топочет точеными ножками, печально голову клонит и блеет, будто окликает на свирели. Входил Тодор в загон, считал заново - все на месте, лишней нет. Качал головой, пожимал плечами, возвращался к костру.
Снова раздавался жалобный поклик овечки - вскакивал Тодор на ноги: тринадцатая овечка, чернее черного, топтала точеными ножками, печально голову клонила. Но стоило Тодору приблизиться - лишняя овечка исчезала, как серебряный прах на ветру.
Никогда не являлась овечка ночью - а только в сумерках. Лишь раз увидел ее Тодор на водопое в полдень. Стояла овечка на высоком берегу реки и звала, молила, плакала, что не понимает ее речи Тодор. Разделяли их солнечные перекаты переправы.
Побледнел Тодор, потому что была та овечка с левого боку - белее белого, а с правого- чернее черного.
Вскрикнуть не успел, расточилась вещая овечка в солнечных лучах - только брызнули стрекозиные отсветы от зеркалец на жилете лаутара.
Наступила последняя ночь накануне Иванова Дня. Вечером на запах вареного хлебова пожаловал Яг. Помятый он был, хромал на три лапы, усы оборваны. Лакомился без вкуса. Фыркал. Слово за слово - вытянул из него Тодор правду: настряпали они с крысой-красавицей оладушек - десяток байстрючат черных с белой грудью, а тут в нору законный крысовин ввалился и всякое дело произошло.