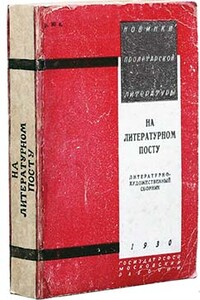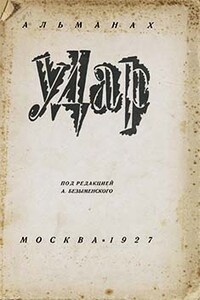Эскадрон комиссаров | страница 51
8
Всплески аплодисментов, выкрики, задорные песни синеблузников отдавались все глуше и глуше. Мертвая тишина рощи хлынула на уходящих от эскадрона. Вечерние сумерки обнажали белесые стволы деревьев, редкая лесная травенка шикала по сапогам, будто предупреждала, что говорить здесь громко нельзя.
Хитрович мял недокуренную папиросу, завертывал теплый мундштук на палец и искоса взглядывал на спутницу. А она, окутанная дымкой газового шарфа, перебирала кисти его, ребром ладони расчесывала вновь и молчала.
Вдали засветились просветы новоселицких полей, на задах деревни горько плакал заблудившийся теленок.
— Эта роща посажена. Аракчеевские солдаты садили, — сказал зачем-то Хитрович.
Она видела, что он говорит не то, что хочет, хотела ответить на сказанное, но у нее вышло:
— Солдаты? Да, да...
И опять замолчали. Пряные запахи, близость и еще что-то невысказанное туманило головы, кружило пьяной мутью...
И всегда так, с осени, с первой встречи. Хитрович сидел тогда в президиуме. Смоляк делал длинный доклад о задачах боевой подготовки. Было тихо, звенящий голос доклада глухо пересказывался в казарме, будто там второй Смоляк, с таким же голосом, пересказывал слово за словом для невидимой, мертво молчавшей аудитории. Хитрович, сидевший к собранию в профиль, вдруг почувствовал, как у него загорелась щека, голова заныла, как в ожидании удара. «Смотрит та, маленькая, с обжигающими глазами. У нее вздернута верхняя губа, надменные зубы. Она взглянула на меня, когда я проходил мимо в президиум, у меня упало сердце и застукало глухо, с отдачей в ушах. Кто она?» Он подобрал ноги под стул и, облокотившись на руку, оглянулся. Она сидела в первом ряду и смотрела на махавшего руками докладчика. Потом был вечер. Хитрович кружился, пьянея от близости ее густо пахнущих волос. Он думал, что пойдет провожать ее, плиты мостовых будут мерно отстукивать шаги, его и ее. Только двоих. Потом на вечере кто-то взвизгнул, медички побежали, на ходу надевая шали и вязаные панамы. Были еще вечера, он ее видел, чувствовал с глухой щемящей болью, но ни подойти, ни заговорить уже не мог. С того дня он беседовал с ней только мысленно. Задавал ей вопросы, она отвечала, он говорил ей многое такое, что никакими словами не передается. Это было как музыка. Музыка лилась тихой грустью. Он ее чувствовал в себе на занятиях и в поле, но чаще тогда, когда оставался один. Зимою он уходил в конюшню, облокачивался на кормушку и, перебирая гриву своего коня, слушал...