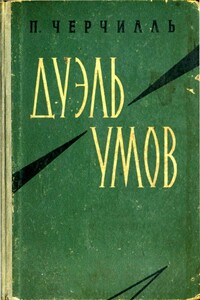На крыльях пламени | страница 29
На повороте оглядываюсь. Наш лейтенант все еще стоит у ворот, сильный порыв ветра сдвигает ему на лоб фуражку, и, махнув рукой, он заскакивает в ворота. Ударившись о косяк, испуганно дрожит железная створка ворот; мы сворачиваем в заросли кустарника.
Я пропускаю вперед двух своих штатских спутников; узкая дозорная тропка ведет к границе. Здесь, в чащобе, потише, у нас над головами со свистом несется вскачь и хлопает ветками ветер, но в глубь зарослей прорваться не может. Хлюпая по грязи, спотыкаясь и скользя на раскисшей от влаги земле, мы с грехом пополам продвигаемся вперед. Я стараюсь ступать на пучки сухой травы и прыгаю с одного на другой, как с кочки на кочку: не выношу грязи. Да и идти по ней хуже: она комьями налипает на каблуки с подковами и ранты сапог, так что едва переставляешь ноги, а заляпанные голенища весь вечер потом отскребаешь. Идущие впереди не обращают внимания на мои ухищрения и равнодушно месят грязь, даже не глядя под ноги.
Так идем мы добрых полчаса.
Дорожка становится шире и переходит в поляну, на которой навалены вязанки хвороста. Укрывшись за ними от ветра, мы располагаемся передохнуть. Я ставлю между ног автомат, расправляю затекшие плечи и перевожу дух. Хорошо отдохнуть после такой ходьбы.
Мои спутники закуривают, пуская клубы дыма. Тот, что повыше, оборачивается ко мне:
— А знаете ли, господин богатырь, я ведь бывал по ту сторону границы.
Он долговязый, с плечищами манежного борца, тонкой талией и по-паучьи длинными и тонкими ногами. При ходьбе он раскачивается, как тростник на ветру, так и хочется его подхватить, чтобы не упал. Ноги-жерди обуты в бумажные носки и огромные башмаки, а колени приходятся чуть ли не на уровне моего поясного ремня. Одет он в бриджи и штормовку, застегнутую до подбородка. Лицо у него узкое и длинное, голова приплюснутая с боков. Так что спереди она кажется маленькой, а сбоку — большой. Нос крупный и мясистый, щетинистые усы, меж бескровных губ мелькают большие желтые зубы. Лоб бронзовый от загара, уши оттопыренные и волосатые. Только глаза привлекательны, их открытый взгляд лучится добротой и лукавством. Вместо бровей две кисточки, смешные и подвижные, буквально говорящие, он каждое слово сопровождает движением бровей. То подмигнет, то сожмурит глаза, то широко откроет и тупо уставится на тебя, а брови при этом пускаются в пляс: одна подпрыгивает вверх, другая сбегает вниз; сведет их, и лицо станет строгим, разведет — наивным; он удивляется — и брови подскакивают на лоб, сомневается — едва заметно ими шевелит. Сколько слов, столько движений бровей. Я смотрю на него с интересом и неприязнью. «Господин богатырь!» Почему он меня так называет? Другое дело — старушки да любящие выразиться позаковыристей деревенские деды. Но этот-то почему? Насмехается? Мне не хочется его обижать, и я молчу. Гибкой палочкой стараюсь попасть по сухой головке репейника, что покачивается передо мной, но ветер все время отклоняет ее от удара.