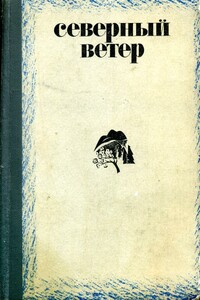Пристань | страница 6
Мне всегда хорошо в дороге, под стук колес, но только недолго это стоит внутри — и опять начинаешь думать и вспоминать и почему-то жалеть себя. В дороге чаще себя жалеешь — сколько уж прожил и сколько мучился, стучат колеса, мелькает чужое степное пространство, и жаль себя и еще чего-то — и не вернешь... Но мысли вдруг тише и медленней и как-то сонно, полого в ногах — и опять забытье, и стук колес, и уже вовсе бездумье. И вот теперь-то совсем хорошо и совсем свободно, и хочется ехать всю жизнь и никуда не приезжать, ни с кем не встречаться и никого не жалеть. Опять сонно в ногах, но это уж и не твои ноги, и не твой это сон, и не твои глаза видят совсем близкую степь, и сам ты уж другой человек — и потому легко. Ради этих минут и люблю я дорогу и жду, как избавленья, — и оно приходит.
А в окно уже открылись пашни — пустые, готовые к зиме поля. Будет снег, и они станут совсем тихими, белыми, изровняет метель все борозды и канавки. Так бы и с человеком, если бы так. Если б могла дорога выровнять его и спасти, а потом отпустить на волю — иди гуляй хоть куда. Но хочется верить — опять закрываю глаза. И вот уж тише, тише колеса, не кричит больше поезд, так он устал, измучился, и я тоже устал, измучился, и уж не чувствую дыханья, не слышу тела...
— Васяня-то от нас отвернулся. А мы целуемся — то да потому. Ну, веди в дом, Тимофеевна. Пристала я, посади на стул.
3
Мать трудно дышит, идет сзади нас. Она еще ничего не сказала, говорит только Нюра и смешно машет правой рукой.
— Я уж не моложе тебя, Тимофеевна. Стары старятся, молоды растут, У вас тут че — огородчик? И неплохой вроде?..
Уже на крыльцо пора подниматься, а Нюре теперь не хочется, подходит к пряслу, заглядывает на гряды.
— Огурчики-то родились?
— Все было, было... — отвечает мать, и не поймешь, кому отвечает — то ли Нюре, то ли себе.
— А ты, Тимофеевна, все учительствуешь?
— Угадала, — смеется мать.
На крыльцо бабушка выходит, осторожно переносит тело на ступеньку. Лицо у ней спокойное, далекое. Ей уже давно кажется, что живет она последние дни, потому думает теперь только о смерти, вошло в нее опять ангельское, чистое, только терзается, почему с первых дней на земле жила по-другому и всем досаждала. И вот — последняя ступень. Глаза видят Нюру. Они еще зоркие, их не проведешь.
— Нюра — не Нюра? Неуж Нюра?
— Она, она, баушка Катерина. Приехала я, соскучилась.
— Сама вижу — не слепа. Замуж-то ты, девка, не вышла?
— Я ведь повенчана. Никто не берет повенчану. А женишок из земли не встает.