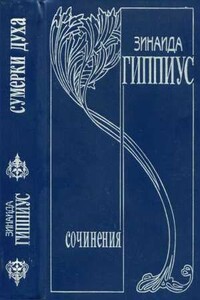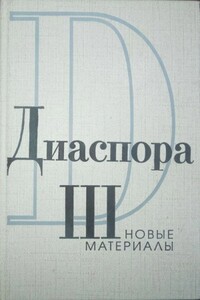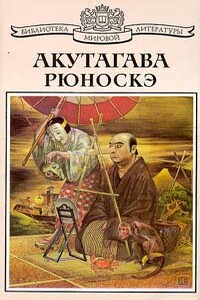Арифметика любви | страница 17
Опять все теснее завивался круг. Темнело. Ярче замелькали огни у воды, — озеро было теперь опоясано двигающейся, сверкающей цепочкой.
Странный лес, странные холмы, странные люди, странный вечер! Как будто иной мир какой-то, иная земля. Пришли тысячи народа, из дальних мест, пешком, только для того, чтобы говорить «о вере». Это для них серьезное, важное, — может быть, самое важное. Как надо верить? Где правда? Как молиться?
Слышно: «лжеученье!». «А преподобный говорит…» Кто-то надрывается: «Сердце-то! Про сердце забыли! Бог любы есть!». «В рассей-скую? Нет, слышь, в рассейскую не заманишь!».
И еще одна была странность в этом вечере, на этом месте; такая непривычная из непривычностей, что сразу и понять было трудно: полная «свобода совести», или, как говорит народ, «свобода веры» (что, может быть, точнее). Эта свобода и, сопутствующее ей, равенство ощущались всеми, вплоть до православных священников, представителей «господствующей» церкви. Если бы дело было только в староверах, — понятно, пожалуй; раскол — «заблуждение», но все-таки признанная церковь, худо ли, хорошо ли — дозволенная. Однако мы уже видели, что здесь, на озере, собрались и сектанты, и те, кажется, «толки», о преследовании которых немало говорилось. Мы приблизительно знали, как вели себя посылаемые к ним из Петербурга духовные и «светские» (без ряс) миссионеры — если, впрочем, удавалось им собрать заведомо «заблудших» для увещания.
Здесь же, на озере, как будто никакой «господствующей» церкви не было: были всякие «веры», между ними православная, каждый о своей свободно говорил, ее проповедовал, и кто кого хотел — того и слушал.
— Пойдем на ту гору, — сказал молодой мужик моему спутнику. — С тобой народ желает поговорить.
Под деревом густая толпа. Мы прошли и сели в середину, к старикам. Рыжеватый, с лысиной, Иван Игнатьич. Подальше — кучей, молодые парни, бабы.
— О чем говорить хотели? — спросил мой спутник.
— Да вот, о вере. Думаем спросить тебя, как полагаешь, где правду-то искать? И какой, слышь, самый-то первый вопрос, самый-то важный?
Мой спутник сказал, что, по его разумению, самое важное — это, чтобы все люди соединились в одну веру, и тогда будет церковь истинная…
— Един Пастыр, едино стадо, это ты верно… А как его сделать-то? — сказал Иван Игнатьич. — Мы ищем, как правильнее. Кабы всем миром сняться искать, так и нашли бы. Только с понятием надо, дело такое…
— Чтобы, значит, с самого начала вникнуть, как оно в Писании сказано, — прибавил другой. — В чистоте взять верное слово, а оттуда уж вперед простираться-Завязалась беседа, во многих отношениях удивительная. Мы думали сначала, что ни мы их, ни они нас не будут понимать, ведь самый язык у нас разный… Но с полуслова они понимали наш, метафизический, книжный, и переводили на свой, простой. Чем дальше, тем говорить все было легче. На какой-то мой вопрос, по существу, Иван Игнатьич не ответил сразу. Серьезно подумал. Потом, так же серьезно: