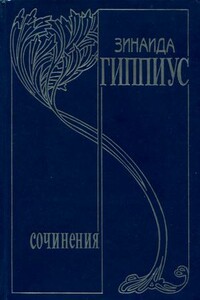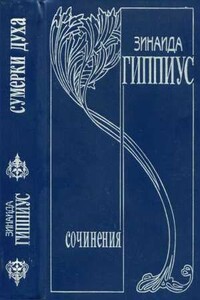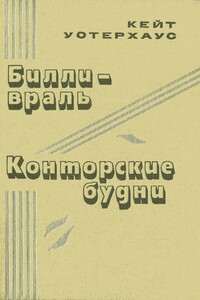Арифметика любви | страница 18
— Ну, не имею я мнения. Говори, что знаешь…
Народ все прибывал, теснился, сжимал круг. Ветер стих, темное озеро с движущимся поясом огней, лежало покойное; темное — и светлое, как черный бриллиант. Еще немного, казалось, — и услышим мы, — все мы вместе, — тихие звоны храмов святого града, скользящие по воде. Увидим в зеркале озера вместо черных холмов — отражение золотых глав…
Поздно, почернела ночь. Когда мы спускались, наконец, вниз, сопровождаемые полуневидной толпой, подошла красивая, статная баба с ребенком на руках, — сноха Ивана Игнатьича.
— Спасибо вам… В село к нам не поедете ли? Двадцать верст будет от города. Мужа-то моего нету здесь, а уж так о вере говорить любит! Пожалуйте к нам, господа! Поговорите с мужем-то, с Василием Иванычем!
Спутник мой, в темноте, рассуждал громко:
— Какие это «немоляи»! Сами о молитве говорят! Что-то странное!
Чей-то голос из мрака возразил:
— А мы не Дмитрия Иваныча согласия. Мы следующего. Другой голос:
— Их молоканами тоже зовут.
— Всяко зовут! — продолжал первый. — А все неправильно. Миссионеры зовут…
Простившись, мы не сразу попали домой. Искали о. Николая, потом ждали его, сидя под холмом. Тут снова кое-кто подсел к нам… Едва-едва добрались в темную, как чернила, позднюю ночь до села, вместе с охрипшим от споров о. Николаем. О. Александра не было, еще остался.
Туман стоял в голове, не то от усталости, не то вообще от этой ночи. О. Николай сказал, что утром опять пойдет на озеро, застанет еще кой-кого, а мы решили уезжать рано.
Не пришлось. Едва поднялись, к семи, вошла Татьянушка с самоваром и с известием:
— А вас мужики дожидаются. Давно, часа два дожидаются! Они уж и чайку у нас попили. С озера мужики, много.
Вмиг горница наша наполнилась. Сидели на лавках, на окнах, на полу. Оказался тут и Дмитрий Иваныч, — он сидел со своим «согласием» отдельно, небольшой кучкой, — и Иван Игнатьевич, и целая куча других, известных и неизвестных.
Разговор был любопытнее и обстоятельнее вчерашнего. «Согласие» Ивана Игнатьевича, более здесь широкое, чем мы себе представляли, — не молоканское, не духоборческое (и уж, конечно, не «немо-лякское»): сами они называют себя — «ищущими». Не Бога ищущими, а церкви: они не только христиане, но признают все догматы, Писание принимают отнюдь не исключительно духовно, а исторически и реально. Во Христе видят Богочеловека. Признают «тайность» и думают, что для спасения нужна Евхаристия. Мы спрашиваем, почему же, если они все это признают, — не идут они в «Российскую» церковь?