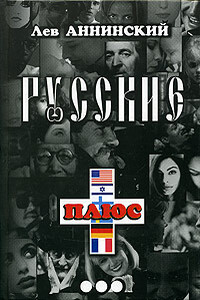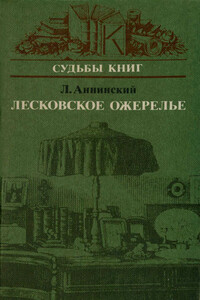Барды | страница 72
Булат ушел, но спать мы не могли: сели слушать.
В два часа ночи раздался стук: Сосед.
Сосед — это явление Советской эпохи, не менее знаменательное, чем Спутник, и в моей истории — не менее важное, чем Вестник. Мы думали, он ворвется с претензиями, что мы ему мешаем спать. Но ушастая молодая физиономия, явившаяся в дверях, излучала доброжелательство и любопытство:
— Вы какие-то замечательные песни тут поете…
Послушав с минуту, он кинулся к себе и вернулся, таща свой «Спалис», или «Днепр», не помню, — такой же огромный, ящероподобный, как все магнитофоны той поры, — с помощью двух монет он состыковал шнуры и подключился к нашему.
Так в четвертом часу утра появилась на свет первая Копия. Первая из десятков, а может, и сотен, в которых разошлась моя первозапись.
С этой Копией должны были бы связаться у меня всякие тревоги «гебешного» толка: дело в том, что молоденький Соcед наш работал дипкурьером и наверняка входил в систему секретных служб, так что, возможно, в истории Поэта непременная глава о том, как его стихи напряженно прослушивают в тайных канцеляриях, тоже появилась не без моего невольного участия. Но сколько ни искал я впоследствии в своей душе угрызений на этот счет, — они так и не появились. Я просто не мог поверить, что за той Копией, что была снята в первую ночь, могло стоять что-то дурное. Дипкурьеры тоже люди. Поэзия не спрашивает у тех, кто тянется к ней, нет ли у них задних мыслей. Их нет, и все тут.
У меня запись копировали потом чуть не каждую неделю — кто хотел. Потом это прекратилось.
А прекратилось так. Очередной раз песни переписывали в звуколаборатории МГУ — по просьбе самого Булата я отдал туда пленку «для одного югослава». Самого югослава я не видел, хотя он вызывал у меня изрядное любопытство, причем не как югослав даже, а как отпрыск русского эмигранта-белогвардейца. Нынешние люди вряд ли поймут, сколь опасно и притягательно для тогдашней души было появление такой ноты в пестрой партитуре «шестидесятника». Белое впервые проступало из-под красного. Я сам был из семьи, где красные и белые стреляли друг в друга. Для меня открывалась тут какая-то тайна и возвращалась Россия, расколотая, но неубитая.
На секунду я все-таки увидел того югослава: мельком, при возвращении мне пленки. Он показался мне неожиданно «мягким», неожиданно «ласковым» и даже неожиданно темноволосым — для всего того, что было связано у меня тогда с остротой «белого» начала в моей жизни.