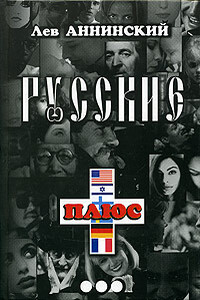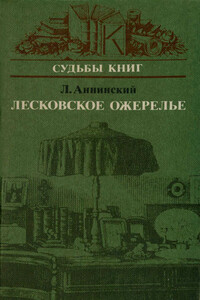Барды | страница 71
Уж не тот ли Булат, что редактирует стихи в нашей высоконачальственной газете и ходит по коридорам несколько съежившись, как бы виновато улыбаясь, а на планерках обращается к начальству с неуловимой издевкой: «Мне очень стыдно, но я все-таки предложу в номер стихи…»
Да, именно он!
Назавтра, еще не вполне понимая, какого масштаба новость входит в мою жизнь, я подошел к нему в коридоре:
— Говорят, вы поете песни… Я собираю… фольклор студенческий… и собственно творчество…
— Да? Творчество? — улыбнулся он, как бы не замечая моего замешательства.
— Хотите, я запишу вас? — выбросился я на технический берег. — У меня есть магнитофон «Спалис», и я живу недалеко…
Мгновенная простота, с какой он принял мое предложение, долго потом вспоминалась мне:
— О, я никогда не слышал моего голоса в записи.
Он пришел вечером следующего дня в сопровождении женщины, которая, естественно, показалась мне божественно красивой. Сам поэт был, как всегда, подчеркнуто неромантичен: серый цивильный пиджачок, чуть поднятые плечи — как бы поза неуверенности — простецкая улыбка, за которой можно было при желании угадать неприступность аристократа, вобравшего в кровь тысячелетнюю культуру, а можно и не угадать — так изчезающе «неприметно» и демократично (как сказали бы теперь) он держался.
Мы выставили что-то вроде винегрета и дешевое вино.
Впрочем, звуков посуды (столь неистребимых на его первых магнитозаписях) я, к моей гордости, избежал. Потому что посуда была скоро сдвинута прочь. В центре стола появился гигантский чемодан «Спалиса», массивный микрофон протянулся к гитаре, я щелкнул клавишей, гитара вступила, и все перестало существовать: винегрет, вино, студенческий фольклор, газета. В комнату старого московского дома вплыло что-то… разом близкое и нездешнее. Староарбатское, знакомое, простецкое. И — убегающее вдаль, как столбы на смоленской дороге — куда-то на запад, на закат, в смерть, в бессмертие, туда, где комиссары туманными силуэтами склоняются перед вечностью.
В первом часу ночи, исписав с двух сторон большую трехсотметровую катушку, мы проводили гостей.
В дверях я почему-то спросил:
— Это — первая запись, или были еще?
— Смотря как считать: неделю назад я пел в одной компании, и вроде бы кто-то записывал. Не знаю, получилось ли: было шумно. И пел я не для записи.
(Тридцать лет спустя Лев Шилов, историк поэзии и самиздата, отвечая во время лекции на вопрос о том, на чей же магнитофон был впервые записан Булат Окуджава, сформулировал так: «Можно с уверенностью утверждать, что ВТОРЫМ был магнитофон Аннинского… А первых, я думаю, найдется очень много»).