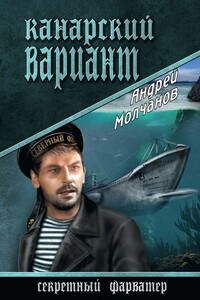Новый год в октябре | страница 11
Прекрати… — шептал отец. — Не надо… Леша услышит.
А он слышал это за кричащей подлым скрипом дверью, слышал! И ухающий бой впервые занывшего сердца звоном отдавался в голове, и мысли были такими, как этот бой, — оглушительными, упруго жахающими; мысли о том, что сейчас, сегодня, произошло непоправимое!
Он отошел от двери, громко протопал до нее вновь, вышел, улыбнувшись разом притихшим взрослым, и с этой застывшей улыбкой зашагал по аллее все быстрее, быстрее, и уже до поляны, уткнулся в траву лицом, и расплакался…
Он так никого и не потревожил вопросами и обвинениями, а когда после развода мать, запинаясь, принялась рассказывать ему о подлинном отце, ему было тягостно от ее жалкого, сдавленного голоса и хотелось помочь ей выдавить эти уже совсем не страшные слова…
Затем появился Бегунов. Отец. Да какой там отец… Отец был один, одит и остался. И ни за что на свете Прошин не мог сказать этому чужому человеку «отец», «папа»… Ни за что!
Но отношения их складывались вполне миролюбиво. Не реже одного раза в неделю Бегунов встречался с ним, вел унылые разговоры о перспективности научного творчества, давал советы и деньги… Алексей брал и то и другое… И вдруг как бы проснулся. Они сидели за столом — мать, Бегунов, — пили чай и вели чинную беседу о выборе вуза. Старшее поколение напирало на поступление в вуз технический, где новоявленный папа читал лекции, Прошин кивал, глядя в пространство, потом взял со стола хрустальную сахарницу, повертел ее в руках, разглядывая, и грохнул об пол. Встал, опрокинул стул и ушел из дома. В тот же вечер он приехал к отцу. У того была какая-то женщина, и Алексей, не разобрав, что к чему, оскорбил и его…
Месяц он шатался по приятелям, пил, собирался поступать в какой-то театральный институт, но, так и не решив, в какай именно, попал в другой институт — в армию. И году службы, тянувшиеся в радости прошедшего часа и в тоске предстоящего, годы, оставившие в памяти жгучие ветры, голую землю Севера, пухнущие от работы руки, сырые гимнастерки вонючие сапоги, как бы сурово внушили ему: не дури. И он не стал дурить. Было печально и пусто.
Армия осталась позади, впереди не было ничего. Люди казались мелкими, живущими в сложных рассчетах своих копеечных дел, друзей не было… Цели не сущечтвовало. Отец со своей новой семьей стал чужим, хлопотливый Бегунов тихо надоедал… А жить было надо.
И он пошел в этот технический вуз, он зубрил муторные, всегда отвращавшие его предметы, ненавидя учебу, жизнь, ненавидя всех, ненавидя себя… И тут возник в нем некто — умный, коварный, деятельный, — что был назван Вторым. Второй защищал, он создавал устав того, что можно делать и чего делать нельзя, изредка разрешая устав нарушить, но обычно либо чтобы проучить, либо дать разрядку… Скверное существо родилось в нем, но заботливое и сильное; и он всегда внимал его благостному, подлому шепотку.