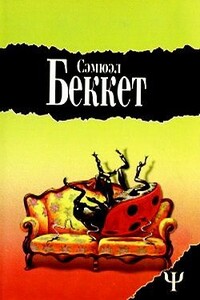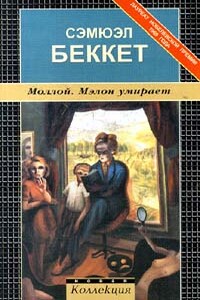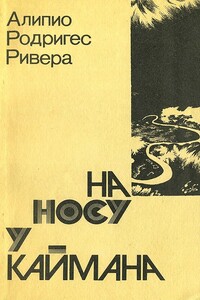Мерсье и Камье | страница 14
— Если вдуматься, — сказал Мерсье, — почему мы не пользуемся нашим зонтом?
Камье посмотрел на зонт, который теперь у него в руке. Он взял его так, чтобы свободнее было бежать.
— Мы в самом деле могли бы, — сказал он.
— К чему обременять себя зонтом, — сказал Мерсье, — и не раскрывать его, когда это необходимо?
— Действительно, — сказал Камье.
— Так раскрой его сейчас, бога ради, — сказал Мерсье.
Но Камье не смог его раскрыть.
— Дай сюда, — сказал Мерсье.
Но Мерсье не смог раскрыть его тоже.
Это был момент, выбранный дождем, выступающим от лица всеобщей паскудности, чтобы начать лить как из ведра.
— Заело, — сказал Камье, — никак не растягивается.
Мерсье употребил грязное выражение.
— Ты меня имеешь в виду? — сказал Камье.
Обеими руками Мерсье поднял зонт высоко над головой и швырнул его на землю. Он употребил другое грязное выражение. И в довершение всего, запрокинув к небу мокрое, дергающееся лицо, сказал: А ты… тебя я знаешь куда драл…
Несомненно, отчаяния Мерсье, героически сдерживаемого с самого утра, сдерживать далее было уже нельзя.
— Так это нашего маленького омниомни ты пытаешься оскорбить? — сказал Камье. — А тебе следовало бы понимать. Это, наоборот, он тебя дерет. Омниомни, всенедиромый[12].
— Я попросил бы избавить миссис Камье от участия в этой дискуссии, — сказал Мерсье.
— Рехнулся, — сказал Камье.
Первое, что замечали в «У Хелен», — это ковер.
— Ты посмотри на этот ворс, — сказал Камье.
— Первоклассный мокет[13], — сказал Мерсье.
— Невероятный, — сказал Камье.
— Будто и не видел его никогда прежде, — сказал Мерсье, — а ведь валяешься на нем все эти годы.
— Я никогда не видел его прежде, — сказал Камье, — и теперь я не смогу его забыть.
— Это все слова, — сказал Мерсье.
Если ковер в тот вечер и бросался по-особенному в глаза, он был не единственным, что в них бросалось, ибо какаду бросался в них тоже. Он нетвердо держался на своей жердочке, подвешенной в углу к потолку и головокружительно колеблемой противоборствующими качанием и верчением. Он бодрствовал несмотря на поздний час. Грудь его поднималась и опускалась немощно и судорожно, пух на ней слабо трепетал при каждом вздохе. Клюв то и дело распахивался и по целым, казалось, секундам оставался по-рыбьи разинут. Тогда становилось видно, как шевелится черное веретено языка. Глаза, которые он прятал от света, исполненные невыразимого страдания и недоумения, казались настороженными. Мучительная дрожь пробегала по оперению, полыхавшему карикатурным великолепием. Под ним, на ковре, была размазана добрая порция свежего дерьма.