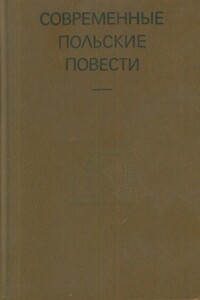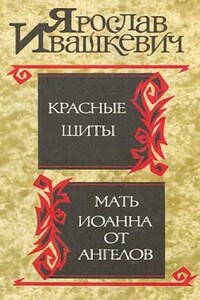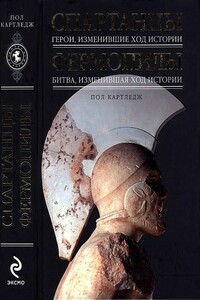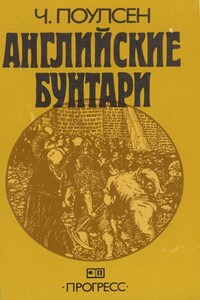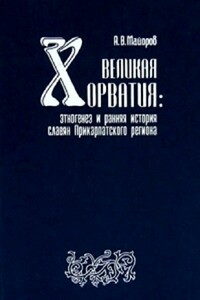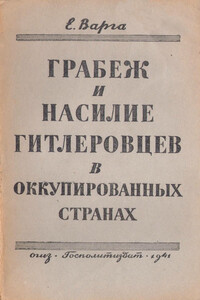Мать Иоанна от ангелов | страница 10
Пани Сыруц с некоторым сомнением слушала рассуждения ксендза провинциала, кивала головой, но в кивках этих неизвестно, чего было больше - одобрения или осуждения. Провинциал в конце концов на нее даже прикрикнул:
- Ну, скажи хоть слово, матушка, - все только головой киваешь, а толку от этого никакого. Как полагаешь, верно я говорю или нет?
- Верно-то верно, - прошептала старушка. - Разве может быть что-нибудь неверное в том, что говорит ксендз провинциал? Но мне сдается, что лучшее оружие, каким господь бог наделил нас против дьявола, это молитва.
- Ну и что? А я разве не говорю, что молитва? - с горячностью возразил провинциал. - Молитва, конечно же, молитва, так я и говорю.
- Говоришь так, - молвила старушка, - да сам не очень-то знаешь, что такое молитва, - заключила она самым невозмутимым тоном.
Провинциал опешил. Он вскочил с места, но тут же спохватился, упал к ногам пани Сыруц и, целуя ее колено, горько разрыдался.
- О бесценная моя матушка! - вскричал он. - Сам Иисус глаголет твоими устами, прямо в сердце уязвила ты меня, дражайшая! Да ведь я и правда не знаю и сказать не умею, что такое молитва. Молюсь - вот и все!
- Молюсь - вот и все, - повторил ксендз Сурин у окна, глядящего в осеннюю ночь, и вдруг вспомнил, где находится. - Дурные у меня сны, сказал он себе. - Бог меня испытует... А я-то знаю ли, что такое молитва?
На коленях переполз он в угол и оттуда стал снова смотреть на ночной мрак, на звезды и на сатану в небе.
- Пани Сыруц, - сказал он, - святая женщина, но и отец провинциал молодчина! Как он мне наказывал чинить сатане допрос, пусть, мол, все выскажет, выболтает, пусть все выложит. А что может сказать отец лжи, отец тьмы. Все, что изречет сатана, - ложь, ложь. Все зло копится от лжи, прибавил отец Сурин, сидя на корточках, - одна ложь родит другую, и оттого мир сей похож на поле, усеянное воронами да грачами. Нет правды на свете.
И мир показался ему таким печальным, мрачным - всюду смерть. И когда он теперь взглянул в окно, даже звезды исчезли, а черное тело ночи стало прямо осязаемым, словно какое-то вымя сатанинское свисало через окно и лезло в комнату. Он перекрестился.
Подползши к мешку с сеном, от которого пахло, как от покосов, ксендз хотел было лечь, но убоялся, что запах этот навеет ему слишком много воспоминаний. И он лег на голом полу, поджал ноги и закрыл лицо руками. Никогда еще не чувствовал он так остро, так осязаемо, присутствие злого, жестокого, чудовищного. Никогда еще так сильно не страшился мира и того, что предстояло ему в этом мире свершить. Никогда еще так сильно не чувствовал истину слов, которые однажды, в детстве, сказал матери, когда она спросила, хочет ли он быть священником: