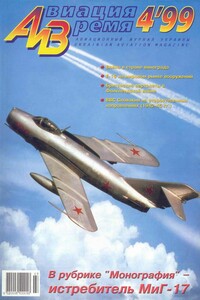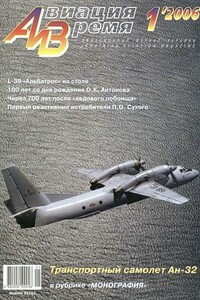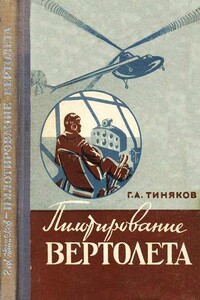Авиация и космонавтика 2008 03 | страница 41
Лётчиков для переподготовки выбирали из числа наиболее опытных, с налётом на реактивной технике не менее 600-700 часов. Предусмотрительность была более чем оправданной: «спарок» Су-7 в это время ещё не было, и польских лётчиков в Краснодарском училище вывозили на двухместном МиГ-21У (тоже им непривычном), после единственного полёта с инструктором выпуская самостоятельно на боевом Су-7БМ. Впечатлений у них хватало: самолёт разбегался стремительно, как ракета, а после отрыва следовало выдерживать изрядный угол тангажа, при котором энергично набиралась высота, но лётчик терял из виду привычную линию горизонта, закрываемую вздымавшимся носом машины. Су-7 нормально вёл себя на высоких скоростях, но ниже 600 км/ч ощущалась недостаточная поперечная устойчивость, проявлявшаяся в виде кренов, а неумелая попытка их выправить могла привести к энергичной раскачке. Выполнение манёвров на малых скоростях сопровождалось потерей высоты, которую непременно следовало компенсировать не только ручкой, но и оборотами двигателя – в противном случае машина начинала «сыпаться» с задранным носом, ещё больше теряя скорость. Особенно критичным это было на посадке, заход на которую следовало выполнять на скорости 400-500 км/ч, не очень любимой «Су-седьмым».
Выдерживать посадочную глиссаду следовало особо тщательно, поскольку высота терялась быстро, а попытка «подтянуть» двигателем могла запоздать. Двигатель АЛ-7Ф-1 выходил на «максимал» только за 17 сек, явно недостаточных для ухода на второй круг при близости земли. Над дальним приводом на глиссаде скорость должна была равняться 400- 420 км/ч, перед выравниванием – порядка 350-370 км/ч, из-за чего поляки сравнивали Су-7 с «падающим метеоритом». Контраст был очень силён: привычный МиГ-17 садился на скорости 170-180 км/ч, а касание при 200 км/ч считалось на нём возможным лишь при неграмотном построении захода на посадку.
Один из первых Су-7БМ, полученных польской стороной в июле 1964 года
Летчик польского Су-7БКЛ принимает машину у технического экипажа.
К тому же Су-7 на посадочных скоростях слабо отзывался на управление, а попытка хотя бы немного подправить направление захода к полосе сопровождалась ещё более энергичным снижением, вновь требуя использования двигателя. Посадка при повышенных оборотах и скорости чревата была повреждением шасси, сгоревшими тормозами, а то и оторванным тормозным парашютом. Выпускать парашют следовало только после касания земли всеми тремя точками, иначе рывок «тормозника» вызывал сильный клевок носом и удар носовой стойкой (на Су-7БМ с нижним размещением парашюта).