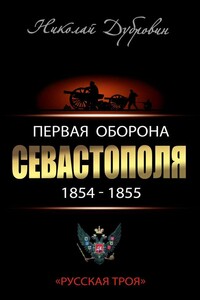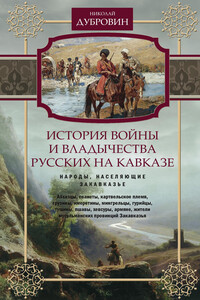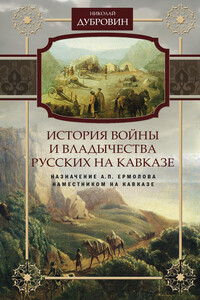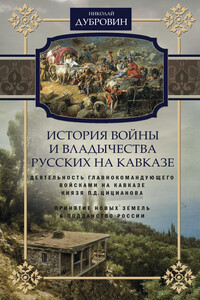Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник" | страница 27
Тот же современник рассказывает, что когда, однажды, священник вздумал сказать проповедь и дьячек взялся за аналой, то стоявшее против царских врат влиятельное лицо, махнув рукой, проговорило: «Не надо, батюшка! Уж поздно, пора обедать». Такое нарушение благочиния и несоблюдение благопристойности в церквях встречались довольно часто. Во время богослужения многие входили в алтарь, громко разговаривали, мешали священнослужителям отправлять службу; некоторые становились спиною к иконам и мало обращали внимания на то, что происходило в церкви. Все это заставило императора Александра I, бывшего несколько раз личным свидетелем подобного нарушения благочестия, поручить митрополиту Амвросию сделать соответствующие распоряжения. В октябре 1804 года последовал указ Синода, чтобы, на основании Кормчей книги [80], никто не входил в алтарь и не закрывал перед алтарем места, необходимого для священнослужителей; чтобы никаких разговоров в церкви и хождения с места на место не было. Нарушителей благочестия поручалось приводить в порядок, на основании устава Благочиния [81], в городах посредством полицейских чинов, а в селениях — через сельских начальников.
Нет надобности говорить, что распоряжение это не исполнялось, и, спустя много лет, архиепископу Филарету, впоследствии митрополиту московскому, пришлось указывать на странное отношение многих к церкви и религии вообще.
«Некоторые, говорил он [82], в темном ощущении познают важность алтарей и, по-видимому, не чуждаются дома Божия, но не разумеют ни того, как должно в него входить, ни того, как обращаться в нем. Поставив тело в храме, уверяют себя, что уже пребывают с Богом, но находящиеся в сем положении не более иногда принадлежат дому Божию, как, — если позволено так выразиться, — истуканы, украшающие только наружность его.
Служат Богу, как рабы, не столько для того, чтобы совершить волю Его, сколько для того, чтобы уклониться от гнева Его. Работают Ему в уреченное время, как наемники, дабы получить от Него плату земных благословений и потом на врагов Его, — на мир и плоть — иждивать дары Его. Какое несообразное с величеством и благостию Божиею богослужение!»
Но тогда об истинном богослужении мало кто думал, и в образованном обществе существовало убеждение, что можно быть добродетельным, набожным и благочестивым, не заходя в церковь, не зная никаких догматов. В самом деле, нельзя же было идти в разрез с убеждениями менторов-эмигрантов, которым мы добровольно подчинялись и которые приняли на себя роль руководителей и воспитателей общества. В то время каждый, даже небогатый дворянин самой отдаленной губернии, считал необходимым иметь своего маркиза-гувернера или хотя «одну штуку из этого волчьего стада», как выразился позднее М.П.Погодин. Помещик Пензенской губерний Жедринский, y которого было всего 300 душ, обремененных долгами, поручил воспитание своего сына виконту де-Мельвилю