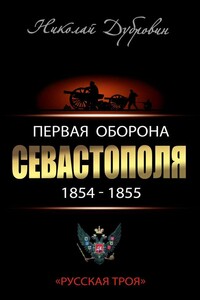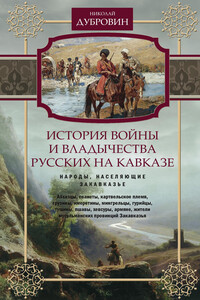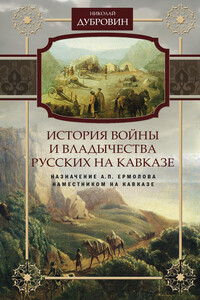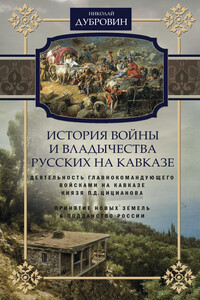Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник" | страница 26
Такое понятие хранили в себе лица самые религиозные, так что, когда 15-тилетний Лабзин переложил в стихи плач Иеремии, то юный стихотворец был наказан матерью за то, что читал Библию. He подозревая, что Библия может служить к просвещению разума, религиозная женщина считала ее книгою, потребною только для священников и вредною для сына. В то время самые набожные лица были уверены, что от чтения Библии люди с ума сходят [77].
Незнание церковно-славянского языка заставляло многих знакомиться с евангельскими истинами по иностранным сочинениям. «Теперь большую заботу мне делает, — писал Филарет [78], — предпринятое по Высочайшей воле изъяснительное переложение Нового Завета на российское наречие, частью для простого народа, частью для просвещенных нынешнего века, которые, не разумея славянского наречия, читают Евангелие на французском».
При полном отсутствии изданий священных книг на отечественном языке, люди, даже вполне образованные, были вовсе незнакомы с основными догматами православной церкви. Князь Алексей Ширинский-Шихматов встретил в своем соседе по имению такое извращенное понятие о вере, которое превосходило все ереси, имя христиан на себе носящие. Когда Шихматов разъяснил соседу его заблуждения, то тот пришел в ужас от ошибочности своего верования. Он полагал, что Творца составляют Бог-Отец, Бог-Сын и Пресвятая Богородица. Когда Шихматов спросил соседа, откуда такое нехристианское мнение, то получил ответ, что о св. Троице он никогда не имел евангельского понятия.
— A как в письмах, получаемых от лиц набожных и благочестивых, — говорил помещик, — я всегда видел Божию Матерь непрестанно упоминаемою со Спасителем, то и не смел о ней иначе мыслить, как почитая ее равною с Ним.
«По многим признакам видно, писал князь А.Шихматов брату, — что многие из невежествующих в вере почитают Божию Матерь больше Спасителя. Да оно и очень естественно, ибо они, не слыхав и не зная ничего о таинстве искупления и воплощения, и не имея никакого понятия основательного о божестве, слыша в поклоняемых Матерь и Сына, без сомнения, по порядку земных вещей, предпочитают ее Сыну...
«Неведение Бога есть первейшая вина зла и корень зол частных и общественных. Это есть источник всех нравственных болезней, которыми недугует наша невежествующая братия; эта болезнь так распространившись, что ее можно даже назвать духовною эпидемией».
При таких понятиях религия, не дававшая нравственного удовлетворения, сводилась к одной внешней формальности. Знать наизусть псалмы, тексты из Священного Писания — считалось необходимым; но о внутреннем содержании их никто понятия не имел. Отсюда происходило весьма странное отношение к церкви и молитве. Один из современников того времени говорит, что бабушка его твердо знала церковную службу и часто сама читала молитвы во время молебнов, которые служили ей на дому в праздничные дни. Это чтение не мешало ей, однако же, развлекаться предметами, совершенно чуждыми богослужению, «так что мы не могли удержаться от смеха при вопросе или замечании, которыми неожиданно прерывался псалом или молитва. — «Отче наш, и же еси на небесах», читала бабушка, и вдруг, взглянув в окно, кричала: девка, посмотри, кто там приехал. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей» — девка, беги скорее в сад, выгони корову»