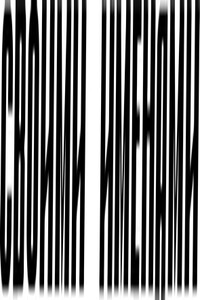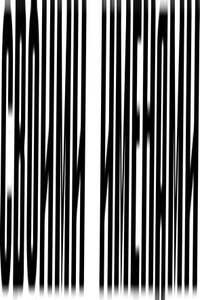Газета "Своими Именами" №26 от 28.06.2011 | страница 67
Что касается рабочей силы, то «освобождение» крестьян и последующие промышленные кризисы буквально втолкнули в монастырские ворота тысячи новых послушников, готовых за кров и хлеб нести самые трудные послушания. Старание в труде подкреплялось внеэкономически, идейно: верой в необходимость тягот на грешной земле и еще более могущественной верой в светлое будущее - в грядущем царстве Христа. Монашество - рабство по убеждению. А такие уставные добродетели монахов, как постничество или сухоедение, помогали существенно сократить расход на питание братьев и сестер.
Представители современной православной церкви пытаются скрыть религиозную деятельность церкви в прошлом и особенно ее борьбу с просвещением и наукой. Гонительница просвещения народа церковь в союзе с самодержавием насаждала невежество и мракобесие. Просвещение использовалось для оправдания крепостного права — эксплуатации народа. Так, епископ Игнатий Брянчанинов, канонизированный на Поместном соборе РПЦ в 1988 году, утверждал на основании текстов из евангелия, что рабство не осуждается религией, что рабство - «установление божественное, святыми отцами православной церкви поддерживаемое, благоверными царями упроченное». Православная церковь признавала только такое просвещение, которое было основано на религии. «Должно быть поставлено непреложным законом, чтобы всякая преподаваемая христианину наука была пропитана началами христианскими, и притом православными», - писал епископ Феофан Затворник (Вышинский) (Сочинения Епископа Феофана. «Путь ко спасению. Начертания христианского нравоучения». М., 1899, с. 45).
Уже в древней Руси церковь выступала в роли гонительницы просвещения и науки. На церковных соборах ХVI-ХVII вв. рассматривались и утверждались индексы запрещенных книг. Древнейший церковный памятник — Кормчая книга; за чтение таких книг назначалось церковное проклятие. Книги, признанные вредными, предлагалось сжигать на теле лиц, у которых они были обнаружены.
Пытаясь убить всякое стремление к свободомыслию и просвещению, церковь преследовала малейшие отступления от буквы «священного писания», с нетерпимостью относилась к любой критике, направленной против нее. Воинствующие церковники проповедовали отказ от рационального знания и даже похвалялись своим невежеством. Симптоматично, что монах Филофей, автор политической концепции «Москва - третий Рим», писал, что он «человек сельский и невежа в премудрости, не в Афинах родился, ни у мудрых философов учился, ни с мудрыми философами в беседе не бывал. Учился есмь книгам благодатного закона, чим бо моя грешная душа спасти и избавится вечного мучения» /В. Малинин. «Старец Елезарова монастыря Филофей и его послания». СПб., 1991 г., с. 33/. Не случайно в том же XVI в. старались даже проповедей не читать в церквах, чтобы избежать возможных оговорок и неточностей.