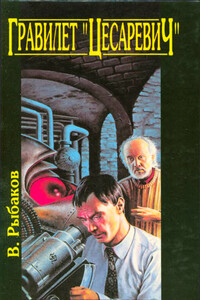Наши звезды. Се, творю | страница 34
4
Она вдруг перестала понимать, зачем живет.
В последние двадцать лет все было просто: для сына.
Вряд ли она обожала его уж как-то чересчур. Самозабвенно, фанатично, эгоистично… И уж подавно она не забывала из-за сына о своих собственных радостях и удовольствиях, в которых, впрочем, вполне знала меру, потому что предпочитала любым бурным усладам надежное светлое довольство.
Но все в ее мире должно было складываться так, чтобы мальчик рос хорошим и все у него срасталось хорошо.
Надо признать, что и до сына у нее все было довольно просто – но ведь у молодых всегда все, в сущности, просто. Неглупая начитанная мечтательная девчонка, которую Бог ни фигурой, ни мордашкой, ни темпераментом не обидел – хотя и не послал ничего уж такого ошеломительного; конечно, главным в жизни была любовь. Ну, предчувствие любви. Вокруг этого все крутилось.
Ей была лестна и приятна самозабвенная преданность Журанкова. А то, что он такой неумелый, обаятельно нелепый, не от мира сего, но с перспективами нешуточного таланта, лишь добавляло наслаждения: лопух-то лопух, а когда она наколола ногу, заботливо высасывал ей ранку на пятке, прижимая талантливую голову к ее подошве с такой готовностью, так естественно, будто занимался этим каждый день. Она была уверена: он ее так любит потому, что это она такая. Много лет прошло, прежде чем она поняла: это было потому, что – он такой.
Да и нечего зажмуриваться: во времена их молодости непрактичность еще сохраняла некое очарование, некую советскую престижность; она считалась признаком одаренности и широты характера, устремленности в будущее. В ту пору она вполне была под этим подлым гипнозом.
Она пошла за Журанкова, уверенная, что по любви.
И в первые годы после рождения Володьки все было, в сущности, хорошо. Ей нравилось, как Журанков чикается с младенцем, когда находит для этого время – а он старательно находил; ей нравилось, как он учил его, карапуза, ходить на лыжах по Александровскому парку и радуется, сам впадая в детство, – а уж карапуз и вообще в восторге; ей даже нравилось, как он рассказывает сыну вместо обычных сказок какие-то романтические бредни про полную тяжкого труда жизнь добрых звезд; чего, мол, стоит один нуклеосинтез, ради которого ослепительные Сверхновые жертвуют собой – а будь иначе, во всей Вселенной любая жизнь оказалась бы невозможна, – и ей, слушавшей краем уха, становилось тепло на душе.
Она любила. Что тут скажешь – любила. Ей нравилось, как этот вечный мальчик ласково и всегда как бы чуть стесняясь трогает ее, мягко раздвигает, будто не к обладанию рвется, а бережно ухаживает за чудесным цветком, а потом, уже добравшись до сладкой глубины, в самый нужный момент все же становится наконец мужчиной и начинает, глухо рыча, вертеть ее, точно щепку в водовороте, мять и молотить, так что она снова, и снова, и снова, несмотря на откладывающиеся в теле и в душе годы, оказывается беспомощной девчонкой – и за эти короткие, но ослепительно яркие возвращения в юность она любила его, наверное, больше всего.