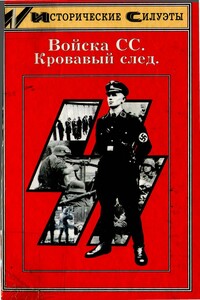Греческая история, том 1. Кончая софистическим движением и Пелопоннесской войной | страница 78
Солнце на своем пути разгоняет туманы; на языке мифа это значит, что солнечный герой одерживает блестящие победы над всякого рода чудовищами или над враждебными ему великанами; отсюда подвиги Геракла, Мелеагра, Беллерофонта. Но как солнце вечером исчезает во мраке, так и солнечным героям часто суждена лишь короткая жизнь; такова судьба Бальдура и Зигфрида на севере и Ахилла у греков.
Но разве солнце действительно умирает вечером? Не то же ли солнце светит нам снова каждое утро? Это представление также нашло себе выражение в мифе. Тот, кто живет на восточном берегу моря, видит заходящее солнце отраженным в воде. Отсюда возникло сказание о золотом челне, в котором Гелиос ночью возвращается через океан в страну восхода, чтобы утром снова начать свой дневной путь. По другой версии того же сказания, Ясон — спаситель — похищает у дракона тьмы охраняемое им „золотое руно" и увозит последнее на своем солнечном корабле „Арго" в Грецию. То же самое представление лежит в основе мифа о странствованиях Одиссея: он также сходит в подземное царство, и волшебный корабль феакийцев увозит его во время сна на родину, где он своими стрелами, не дающими промаха, убивает женихов, которые во время его отсутствия преследовали его жену.
Но что заставляет солнце ежедневно, не зная покоя, совершать свой путь по небу? Очевидно, какая-то принудительная сила; Гелиос несвободен, он служит какому-то господину. И эта черта характерна для солнечных героев; как Зигфрид служит королю Гунтеру, так служат Геракл Эврисфею, Ясон — Пелию, Ахилл — Агамемнону, Персей — Полидекту; в сказании об Одиссее также сохранились следы этих служебных отношений.
Здесь не место хотя бы вкратце излагать разнообразные до бесконечности космогонические мифы греков, тем более что их первоначальный смысл лишь в немногих случаях может быть установлен с уверенностью. Дело в том, что духи, которыми народная фантазия населяла все тела природы, все более отделялись от своей материальной основы, и в конце концов народ утратил всякое представление о связи между естественными явлениями и созданными для их объяснения мифами. Уже творцы эпоса не понимали истинного смысла мифов. Естественно, что в древние сказания проникло множество чуждых черт, а из старых мифических образов выделились новые лица. Гелиос, например, имеет у Гомера эпитет „сияющий"; в позднейшем мифе Фаэтон является уже самостоятельной личностью и называется сыном Гелиоса. Аякс изображается в „Илиаде" с широким щитом, который он носит, по обычаю того времени, на ремне через плечо; позже у него оказывается уже сын Эврисак и отец Теламон. По таким же соображениям Телемах (сражающийся издали) становится сыном стрелка из лука, Одиссея.