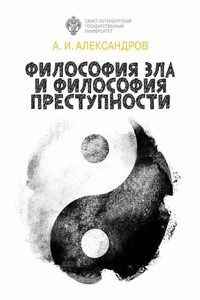Соединить почитание и понимание: православный подвиг как предмет и задание православной мысли | страница 7
Российский этап
Как часто и не без основания говорят, исихазм нашел вторую родину на Руси; подвижническая традиция в исихастском русле начала развиваться у нас в первые же десятилетия христианизации страны. Но из всей богатой истории отечественного исихазма мы затронем сейчас лишь один аспект, касающийся судеб Культурного проекта. Черты новой, русской ветви духовной традиции в значительной мере определялись особенностями процесса передачи, трансляции традиции из ее исходного византийского очага. Как многократно отмечалось исследователями, эта трансляция на русскую почву отнюдь не была одинаково полной (или неполной) по отношению ко всем сторонам и всем содержаниям исихазма; причем главное ее отличие было в том, что наиболее неполно, урезанно оказались представлены именно те содержания традиции, которые отвечают ее интеллектуальным измерениям и концентрируют в себе ее культуротворческие потенции.
До относительно недавнего времени в науке считалось, что все стороны исихазма, связанные с богословским и эпистемологическим анализом опыта и с подобною интеллектуальной проблематикой, вообще почти не получали трансляции в Россию. Однако за последний период процессы трансляции были заново тщательно исследованы трудами русских ученых (Г.М. Прохорова, В.В. Милькова, Н.Н. Лисового и др.), и эта картина несколько изменилась. Как выяснилось, в эпоху Исихастского Возрождения деятели Русской Церкви, в том числе, сам преподобный Сергий, митрополит Киприан и др., прилагали совсем небезуспешные усилия к тому, чтобы исихастская литература, паламитское богословие были адекватно и полно представлены на Руси. Но эти усилия, предпринимаемые сверху, не находили нужной поддержки снизу, не получали активного восприятия - и в результате, уже вскоре оказывалось, что тексты богословско-аналитического характера почти не распространяются, но зато огромное внимание получают чисто аскетические, аскетико-поучительные, нравственно-аскетические темы и соответствующие сочинения. Имела, таким образом, место относительная скудость интеллектуальных измерений русского исихазма, и создавалась она за счет не столько трансляции как таковой, сколько особенностей ее дальнейшего усвоения - т.е., тем самым, за счет особенностей и предпочтений самого русского религиозного сознания. Богословская, аналитическая, интеллектуальная линия в исихазме не прививалась на русской почве. Вплоть до преп. Паисия Величковского, в русском исихазме почти не создавалось оригинальных текстов; исключением (подтверждающим это правило) служит лишь преп. Нил Сорский. Бытовавшая исихастская литература практически исчерпывалась переводами. И в итоге, возвращаясь к используемым нами понятиям, можно сказать: русское сознание проявило выраженную наклонность более к почитанию, нежели к пониманию.