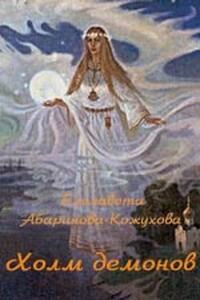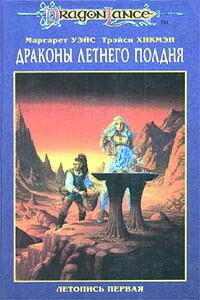Искусство наступать на швабру | страница 28
На последующих страницах речь шла как раз о гробе и барельефе, а их описание сопровождалось фотографиями — правда, весьма темными и неразборчивыми, учитывая, что они делались в темном помещении и, по всей видимости, не самой совершенной аппаратурой.
«Впереди шествует лев, символизирующий у древних кислоярцев могущество их правителя, — читал Василий, — за ним — медведь, воплощающий в себе силу и мудрость. Далее следует лиса как символ хитрости и благородства…»
Читая описание барельефа, Дубов поминутно справлялся с фотографией. Однако его внимание привлекло какое-то размытое пятно как раз над коровой, символом процветания и изобилия. В описании о нем не было сказано ни слова.
— Оптический дефект, — пробормотал детектив. — Или… или это какая-то птица? Но почему тогда о ней ничего не сказано? Нет, видимо, все-таки дефект.
Сделав последние пометки себе в блокнот, Василий откинулся в вольтеровском кресле. Он прокручивал в мозгу описание гробницы со всем ее содержимым и чувствовал, что чего-то не хватает, но чего именно — никак не мог сообразить.
Дубов решительно поднялся и, прихватив папку, направился в «основной» кабинет госпожи Свешниковой.
— Ну как, Василий Николаевич, нашли вы то, что искали? — спросила Тамара Михайловна.
— Пожалуй, да. Но лишь отчасти. — Детектив заглянул в блокнот. — У меня к вам, Тамара Михайловна, будет еще парочку вопросов.
— Постараюсь ответить.
— Первый — какова судьба золотого гребня? В описании об этом ничего не сказано.
— Ну, тут долгая история, — нехотя отозвалась директриса. — Вам непременно нужно знать?
— Стопроцентно не уверен. Но не исключаю, что и это может пролить свет на все дело в целом.
— Профессор Кунгурцев думал передать гребень в Эрмитаж, однако все оказалось не так просто. Как раз в то время началась кампания за региональную самостоятельность Кислоярского района, о создании независимой республики речь еще не шла, и в газетах много писали о культурных ценностях кисляцкого народа и о том, что недопустимо их разбазаривать. В общем, в свете всего этого профессор решил временно оставить гребень для нашей экспозиции «Древние курганы Кислоярщины», а уже потом решать вопрос о его дальнейшей участи.
— Да, я припоминаю, — кивнул Дубов. — Кажется, с этой выставки и началось то, что теперь гордо зовется Кислоярским Народным Пробуждением. Ну и что же с гребнем?
Свешникова немного замялась:
— Видите ли, Василий Николаич, включить ее в экспозицию мы не решились, и гребень так и остался в запасниках. Все-таки вещь золотая, а обеспечить полную сохранность мы не могли. Так гребень и пролежал несколько лет в запаснике, а точнее — у меня в сейфе, пока не явилось некое должностное лицо Кислоярской Республики, предъявившее бумагу с печатью и подписью еще более высокопоставленного лица с предписанием сдать гребень в государственную казну. Как вы понимаете, тут уж спорить не приходилось.