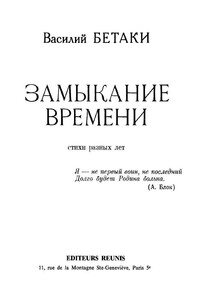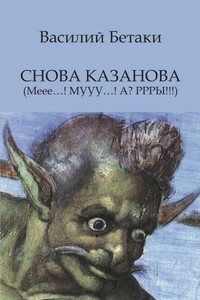Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 80
В пассаже, который вырезали из уже готового тиража (25 тыс экземпляров!), Эткинд писал об «уходе в перевод» многих русских поэтов: «лишенные возможности высказать себя до конца в оригинальном творчестве русские поэты — особенно между 17-м и 20-м съездами — разговаривали с читателями языком Гете, Шекспира, Орбелиани, Гюго»
Не удивительно, что один из основных мотивов поэзии Арсения Тарковского — как быть самим собой.
В первой своей книге, вышедшей в 1962 году, Тарковский аккуратно и многозначительно расставил под стихами даты. Самые ранние помечены 1929 годом…
Более тридцати лет молчания вдруг открылись читателю, и это была поэзия самой чистой пробы.
Сама картина русской поэзии 30–40 годов ХХ века изменилась, — оказывается в это время жил превосходный никому не известный поэт.
-*-
Поиск соответствия слова и понятия — самый незаметный из всех творческих процессов, но видимо, самый сложный и тонкий:
Я не хочу ни власти над людьми,
Ни почестей, ни войн победоносных,
Пусть я застыну, как смола на соснах,
Но я — не царь. Я — из другой семьи.
Дано и вам, мою цикуту пьющим,
Пригубить немоту и глухоту,
Мне рубище раба не по хребту,
Я не один, но мы еще в грядущем.
Стоицизм в жизни и в стихе, противостояние искушениям.
И — в поисках корней этой суровости — восхождение к истоку, а это всегда путь, обратный потоку времени.
В плане философском — за этой поэзией стоят ветхозаветные мотивы, не всегда сразу видные читателю. В плане биографическом — возврат к детству с его еще цельной картиной мира. Цельность тут и у истоков личности, и у истоков культуры.
Ощущения сегодняшнего человека в сегодняшней обстановке у Тарковского непосредственно и естественно облекаются почти равно и в ветхозаветные, и в евангельские образы. Вот обычное утреннее пробуждение:
И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо
Горевать за Петра?
Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь от кого же
Я отрекся во сне?
Но ощущение природы и всего бытия уже необратимо раздроблено в сознании современного человека. Хотя и верно с одной стороны, что "нет отрады во множестве мудростей" («Экклезиаст»), но ведь с другой стороны верно и то, что уже открытое — всё равно не закрыть, и мы живём в мире, где властно присутствие сегодняшнего, нового, которое для нас может оказаться первичным, более привычным, чем вечное! И потому, если нормально для классического взгляда сравнить самолет со стрекозой, то у Тарковского, в его "обратном восхождении" сравнение становится обратным: