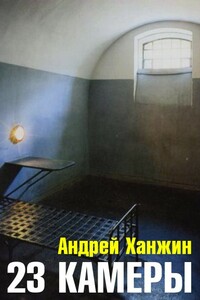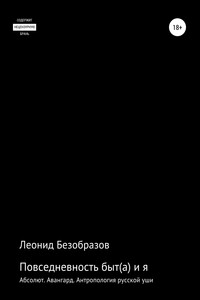Глухарь | страница 5
Когда ее хоронили, я ничего не чувствовал. Вообще ничего. Будто дьявол в меня свистнул. Насквозь пробил. Ничего в сердце, совсем ничего. Гроб во двор вынесли. Толпа поддатая уже в ожидании поминок нервничает. Соседка меня леденцами кормит, говорит: «Иди с бабушкой попрощайся». А я смотрю на соседку как на полоумную: чего мне с трупом прощаться? Бабушки уже нет. Это все равно, что пойти к ее зимним ботиночкам прощаться. Я же человека любил, живого человека, а не то, что сейчас в землю зарывать несут. Ничего, ничего не чувствовал. Окаменел.
Что дальше? Подворотня. Мне ведь очень нужно было, чтобы улица меня признала, вчерашнего домашнего мальчика. Какие-то родственники дальние объявились, ленинградской пропиской озабоченные. Я их ненавидел. Жестокость родилась. У них свой сын был, Павлик, на два года меня старше. Он мне подзатыльник как-то отвесил, так я ему руку дверью сломал. Подкараулил, когда он через дверной проем к выключателю потянулся, ну и бахнул ногой по двери. Избили меня за это.
Плевать я на них хотел.
И через короткое время — в ДВК. За кражу из овощного магазина. Помидоры такие были в пятилитровых банка, болгарские, «Глобус», самые вкусные!
А ДВК — это так называемая бессрочка., так в то время детские зоны назывались. Зоны для тех, кому еще четырнадцати не исполнилось — с этого возраста уголовная ответственность наступала. Можно было срок давать. А до этого возраста судить закон не позволял. Вот и «бессрочка». Мне тогда двенадцать было.
Вот так, братишка! И с той самой минуты, когда одноухий сержант захлопнул за мной дверь камеры в отделении милиции, я никогда больше на свободу не выходил. Никогда. Так что тюремные ворота для меня — это двери в параллельное пространство, которое я не знаю и знать не хочу. Ничего там нет, кроме судорожного поиска наслаждений. Ничего. Там людей слабеют, мельчают… Ну разве что война вас оправдывает.
Слышу иногда или читаю о тюремных наших «ужасах», и пытаюсь представить себе тех людей, которые это сочиняют. Кто они, эти люди? Сидели ли они в лагерях? И если сидели, то как жили, кем жили? И чего ради жизнишки свои никчемные так уберечь тщились? Наверное мнили они, что очень, очень нужны человечеству со своими переживаниями сопливыми. И ради этого вгрызались в жизнь. Как же — оправдание. Выжить любой ценой! Ну и выжили. И такое понаписали…
И правда, бог обиженных жалеет. До поры до времени, а потом куражится, если обиженный уж и на бога обижается. И правда, что на запряженных дураках тот бог вселенную объезжает! Мученики липовые. О жестокости философствуют, о нравственном начале…