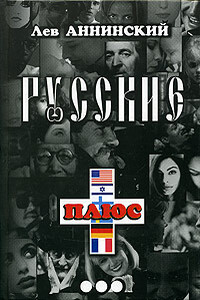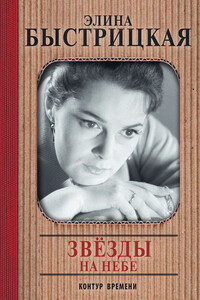Три еретика | страница 20
Московская сторона на этом фоне, пожалуй, даже и выигрывает. „Мрачное семилетие“ становится временем возрождения для „Москвитянина“. Разумеется, тут нет и следа настоящего, первоначального, высокого славянофильства, да и недавнее „почвенничество“ сороковых годов — ветшает. Но вокруг редакции все–таки собираются новые, молодые силы. Назову несколько имен, благо, это все действующие лица нашей дальнейшей повести: критики Эдельсон и Алмазов и еще один, филолог и историк, белокурый певун, прославившийся еще в университете, еще в кофейне Печкина пением русских песен, — Филиппов: фамилия, увы, не запоминающаяся, но зато имя редкостное: Тертий. Затем среди сотрудников появляется Фет. Появляется Островский. Григорьев сменяет грубоватого Шевырева в роли первого критика. Именно он, Аполлон Григорьев, вдыхает жизнь в старую доктрину, именно он обновляет веру искренностью: „веру в грунт, почву, народ“, веру в „преданья“, отринутые „логическою рефлексиею“, веру во все органическое и непосредственное, что было „похерено наукой“. Начинающиеся пятидесятые годы останутся в памяти Григорьева „порой надежд, зеленых, как цвет обложки нашего милого „Москвитянина““…
Вестницей весны зеленая книжка „Москвитянина“ доходит и до Писемского в его костромском заточении: открыв мартовский выпуск 1850 года, он обнаруживает там… запрещенную некогда пьесу Островского!
Письмо, направленное Писемским автору пьесы немедленно по прочтении, есть образец дипломатического искусства.
„Достопочтенный наш Автор Банкрута!..“
Одно формальное уточнение: далее я буду сохранять орфографию писем, полную причуд и вольностей. Причуды эти не должны вводить нас в слишком большой соблазн относительно грамотности „действительного студента“: почерк у него был чудовищный, часто он диктовал письма жене Екатерине Павловне и другим лицам, на счет которых и надо отнести вольности орфографии. Кое–какие причуды идут, однако, и от Писемского, но интереснее другое: та психологическая точность, с какой он обращается к малознакомому человеку:
„…Если Вы хоть немного помните вашего старого знакомца Писемского, которому доставили столько удовольствия чтением еще в рукописи вашей комедии, то можете себе представить, с каким истинным наслаждением прочитал я ваше произведение, вполне законченное. Впечатление, произведенное вашим Банкрутом на меня, столь сильно, что я тотчас же решил писать к Вам…“
Мягко напомнив о себе, Писемский тотчас делает шаг к сближению: он предлагает вниманию Островского разбор пьесы, полный глубокого понимания и искренней солидарности. Однако никакой дешевой лести здесь нет, и, чтобы удостоверить это, Писемский вслед за позитивным разбором подает несколько критических замечаний, весьма конкретных и несомненно проницательных.