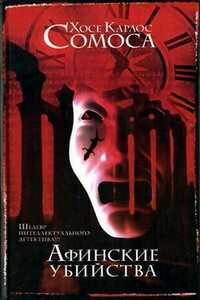Перпендикулярный мир | страница 26
— Да ты язва! — восхитился я. — Такие задатки… Может, ты и материться умеешь?
— Я топиться собралась, — говорит Гера.
— Ой-ли, — не верю я, и смотрю на упрямо сжатые губы, и в глаза, полные самого настоящего ужаса. — Скорее, ты со страха утопишь кого-нибудь другого, а не себя.
— Вы так думаете?! — с надеждой в голосе спрашивает она.
Но она добилась своего, — я расположился на соседней койке. В комнате темно, тепло и тихо. Я даже не слышу ее дыхания. Так — тихо.
Огромная Луна над занавеской заглядывает в нашу тишину. Полнолуние. Время всяких чудес и таинственных превращений.
Но мне не до этого, — я хочу спать. Очень… Уплываю в сон, где так же тепло, темно и тихо. Там — отдых.
— Дядя Миша, — вы не храпите? — слышу я осторожный голос.
— Не знаю, — отвечаю я, — я, когда сплю, себя не слышу.
— Ничего, мне нравится, когда мужчины храпят, — говорит Гера. — Спокойной ночи.
— Спокойной, — повторяю я…
Сон… Это такая штука, когда вдруг во тьме появляется серебряная дорога, по которой иду я. Рядом со мной — серебряный пес. Он — мой. Он нюхает землю и бежит впереди. Но это не дорога, — это широкая тропа в ночном лесу. И серебряный он от света огромной спокойной Луны над головой…
— Дядя Миша, дядя Миша…
— Да, — поднимаю я заспанную голову.
— Вы еще не спите?
— Уже нет, — сдержанно отвечаю я.
— Я никак не могу заснуть…
— Все, — говорю я решительно. — Больше, ни одного звука. Еще один звук, и я ухожу в соседний дом. Поняла?
— Да, — соглашается она смиренно.
Я еще какое-то время слышу, как она сопит и переворачивается с боку на бок.
Пока опять не растворяюсь во тьме.
— Дядя Миша… Проснитесь, дядя Миша…
Я зол. Я чертовски зол. Она даже не понимает, как я зол на нее… Я возвращаюсь из своей сказки в эту кромешную темноту, и ледяным голосом спрашиваю ее:
— Что?
— За дверью кто-то стоит.
— За какой дверью?
— За дверью, — повторяет Гера. И я чувствую, как она боится, как вся трясется от страха, вся сжалась в комочек, и покрылась гусиной кожей.
Это ее немного извиняет. Ее — искренность.
— Спать будем при свете. Раз такое дело, — говорю я, легко поднимаюсь в темноте, подхожу к стене и щелкаю выключателем.
Лампочка над столом, закутанная в картонный абажур, вспыхивает, и все страшные тени пропадают. Я доволен своей работой.
— Вот, — говорю я.
Но темно на улице. За той самой дверью.
Я подхожу к ней, отодвигаю засовчик, такой крохотный, что не выдержал бы первого серьезного удара, распахиваю эту чертову дверь настежь, и, обернувшись к Гере, говорю: