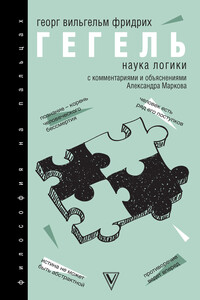Энциклопедия философских наук. Часть первая. Логика | страница 24
1888 г , S 86
**) Там же, стр 105.
XXX
преодоления этого противоречия. Диалектическое понимание
мышления необходимо, потому что основа мысли есть не–мысль, потому что
скрытая и все же повсюду и всегда просвечивающая сущность ее есть
конкретное, чувственное, словом — основа мысли, ее
противоположность, есть чувственность, конкретное, материальное. Гегель с своей
идеалистической и абстрактной точки зрения не мог добраться до
общей основы философии и естествознания, каковой основой является
чувственный мир.
Гегель утверждает, что «сверхчувственное есть чувственное и
воспринятое, как они существуют в истине». «Сверхчувственное» есть
идеальное выражение чувственного и конкретного. Гегель, однако,
останавливается на этом идеальном, которое одно и есть истина.
Таким образом, действительный мир исчезает и растворяется в
тумане абстракций. Но истина — это конкретное; она требует, чтобы
мы воспроизвели в человеческом сознании это конкретное и
чувственное. Гегель, понимая единство чувственности и мысли, остается на
точке зрения мысли, отожествляя с ней чувственный,
материальный мир. Последний представляет собою противоположность,
которой определяется абстрактное, отвлеченное. В этой
противоположности–абстрактное, мысль, находит свою границу. Логическое и
абстрактное имеют свою противоположность и находят свое общее
определение в конкретном, не–логическом. Конкретное, чувственное,
материальное есть отрицание абстрактного, отрицание мысли, ее иное,
имманентная отрицательность логической идеи, ее реальное
содержание. Мысль и с точки зрения Гегеля должна перестать быть чистой
абстракцией, отвлеченным понятием, а должна стать «конкретной
мыслью», «объективным понятием», т. е. переходящим в свою
противоположность, в материальное содержание. Словом, мы можем
формулировать эту точку зрения таким образом: истина формального и
абстрактного, истина идеального есть конкретное, чувственное,
материальное.
Для нас не подлежит сомнению, что Шмитт в своей критике
гегелевской диалектики находится под влиянием, с одной стороны,
Фейербаха, а с другой стороны, возможно, и Маркса, хотя его работа
носит на себе печать полной независимости и самостоятельности.
Но как бы там ни обстояло дело с вопросом о влиянии Маркса на
Шмитта, одно — несомненно; в основном критика Шмитта совпадает
с критикой Маркса и Энгельса,
IV.
Мы уже привели выше мнение Энгельса о гегелевской диалектике
как о крайне отвлеченной и абстрактной. Маркс первый указал на