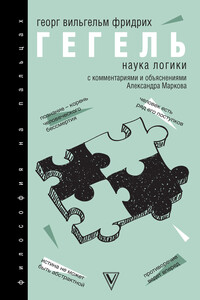Энциклопедия философских наук. Часть первая. Логика | страница 18
объективное существование, поскольку они суть объективные мысли,
а под формами он понимает то же содержание, т. е. те же категории,
или чистые мысли, поскольку они являются «формами
сознательной мысли».
Гегель прав в своем утверждении, что категории нашей мысли
являются одновременно и объективными категориями. Но в то время
XXIV
как материализм видит в субъективных формах отражения
объективных форм, Гегель, наоборот, считает, что «логика рассматривает мысли,
самое содержание которых принадлежит мышлению и произошло
из него».
Гегель приводит следующий пример:
«Рассмотрим кусок сахара; он — твердый, белый, сладкий и т. д.
Мы говорим, что все эти свойства объединены в одном предмете, но
это единство не является предметом ощущения. Точно так же обстоит
дело, когда мы рассматриваем два события как находящиеся друг к
другу в отношении причины и следствия. Воспринимаются здесь два
отдельных события, следующие друг за другом во времени. Но что
одно событие есть причина, а другое — следствие (причинная связь
между этими двумя событиями), — это не воспринимается, а
существует лишь для нашей мысли» *).
Совершенно неверно, будто «определения причины и действия
не почерпнуты из наблюдения», т. е. из опыта. На этом примере мы
лишний раз убеждаемся в неправоте Гегеля и идеализма вообще.
Из того факта, что мы не ощущаем непосредственно действия
причины, Гегель делает вывод о том, что определения причины и
действия не почерпнуты нами из опыта, а принадлежат нашей мысли.
В природе существует много такого, что нам не дано в
непосредственном ощущении и относительно чего мы делаем те или иные
логические выводы, исходя, однако, из того, что нам дано в восприятии
или ощущении. Почему я одно событие считаю причиной, а другое
действием? Очевидно прежде всего, что оба события мне дани в
восприятии, причем одно дано как предшествующее, другое как
последующее одно как «порождающее» другое, а другое как «порожденное»
первым и т. д. Все это с достаточной убедительностью доказывает,
что определения причины и действия почерпнуты нами именно из
наблюдения и опыта, а вовсе не из сферы чистой мысли. То же самое
относится ко всем категориям, которые являются не чем иным, как
отражением, результатом и обобщением опыта. Но наблюдение и
опыт вовсе не сводятся к непосредственному ощущению и восприятию.
Вез мышления нет научного опыта.
В этой связи должно в двух словах остановиться еще на вопросе
о взаимоотношении между логикой и реальными науками, как обычно