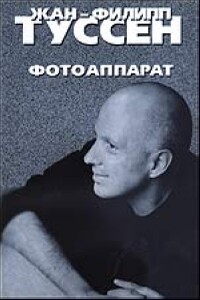Путешествие Ханумана на Лолланд | страница 35
Каждый раз утро пускало первым свет, ощупывая в сумерках предметы, делая зримым то, что лучше бы не видеть совсем и никогда. За светом на поводке шел холод. А за ними следовал маршем оркестр бесшабашных звуков нарождающегося дня. Они проступали отовсюду: дурачили, издевались, кривлялись, дразнили…
Звуки лагеря; звуки жизни этих отбросов; этих обоссанных беженцев по жизни. Что были они? Избыток природы, которым пренебрегло общество различных стран? Все то отсеченное от совершенной формы дивного мира? Спасавшие свою жизнь, единственные уцелевшие, кого стихия, помиловав, вымела на датское – и даже хуже – юлландское поле, посреди кукурузы, коров и курятников и прочего порядочного хлама. Что, всем им глобус показался слишком круглым? Что, у ребят он слишком быстро вращался под ногами? У многих горел и шипел, плевался осколками разорвавшихся мин, бомб, кровавых гейзеров. Рушились пирамиды; сдвигались исторически сложенные пласты; раскалывались архипелаги государств; за камнем катился камень, и жизнь накрывала как лавина, жизнь обваливалась и уходила как оползень, а потом неслась, как паровоз на полном ходу, и мелькали за окнами прощально вздыхающие ветви, а на пятки наступали страх, ужас, вой, смерть. И вот они очутились в сточной канаве датской провинции. Застряли между кукурузным, щедро удобряемым полем и полем футбольным, по которому ходить запрещалось. Они оказались заперты насмерть в тупике бесконечного уик-энда, в тесном купе поезда, который шел в никуда, по кругу, по кругу, до дурноты укачивая однообразием. Они слышали каждый день одну и ту же фразу: «Нато немношко потоштать». И они ждали, топтались, толкались в очередях за подачкой, бранились, крали, пили, дрались, черствели, тухли, как овощи, на которых не нашлось покупателя. Они ждали, когда их скормят скоту, они ждали, когда их отправят обратно в пекло, они ждали ответа… С этим они засыпали. А утром всё повторялось: назойливый холодок, вонь с поля, липкий дрожащий свет, который возвращал вещам их материальность, а ситуации – ощущение неизбежности.
Неотвратимо из мрака вырезался куб старого громоздкого и бесполезного телевизора. Под ним, как пьедестал, показывалась тумба с гадкими круглыми ручками ярко-желтого цвета. На стене был календарь на апрель 95-го (что само по себе было ложью более чем трехлетней давности). Плакат с немецкими девочками, которых звали Tic, Тас и Toe (я не представлял, кто из трех был кто, но Хануман, конечно, знал родословную каждой из этих чумазых собачонок; они были его любимицами). Продолговатые металлические шкафчики, серо-синие. По мере того, как свет становился все более властным, потолок, казалось, опускался все ниже и ниже, и все явственнее становились размазанные летним психозом трупики мух на нем. Гадость! Один и тот же узор каждое утро.