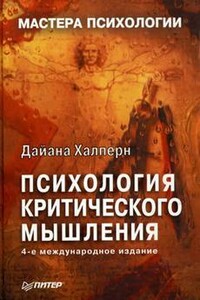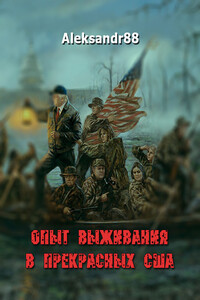Интеллектуальный облик литературного героя | страница 15
С этой мнимой объективностью теории и практики позднейшей буржуазной литературы тесно связана ее столь же мнимая научность. Натурализм все дальше отходит от живого понимания общественных противоречий, заменяя его пустыми социологическими абстракциями. При этом подобная quasi-научность все более проникается агностицизмом. Кризис буржуазных идеалов изображается у Флобера как сумерки человеческих дерзаний и крах научного понимания мира. У Золя агностицизм выступает, в еще более ясной форме. Он говорит, что литература может изобразить, "как" происходят события, но не знает "почему" они происходят. Виднейший теоретик этого направления- Ипполит Тан, стремясь определить историческое содержание общественного бытия людей, приходит к понятию расы, как последнего, неразложимого основания.
Здесь "оно выступают мистические стороны этого ложного объективизма. Статические типы социологии литературы, основателем которой считается Тэн, в конце концов, также сводятся к различным состояниям души (etaits d'ame), как в художественной области — человеческие типы, и положения у бр. Гонкур. Не случайно, что при этом "объективизме" литературы и литературной теории психология играет роль науки наук. Тэн изображает среду как фактор, механически воздействующий на человеческое сознание. Но, говоря об "элементах" этой среды, он усматривает, например, сущность государства в "чувстве подчинения, которое собирает массу людей вокруг авторитета одного вождя". Бессознательная апологетика капитализма, свойственная всему социологическому направлению, прямо переходит здесь в сознательную реакционность.
Еще неясные у зачинателей нового реализма иррационалистические тенденция выступают на первый план в дальнейшем развитии литературы, по мере перехода буржуазии от демократии к реакции. При этом часто сохраняется и тенденция к "объективизму". Достаточно вспомнить, например, о столь характерной для послевоенного капитализма моде на всякого рода "монтаж". Противоречие между ложной объективностью и мистическим субъективизмом глубоко свойственно всему буржуазному миропониманию, особенно в период упадка, и повторяется в бесчисленных вариантах, выступает в бесконечных спорах "об искусстве, эстетических манифестах и доктринах. Kак всегда в таких случаях, это противоречие не является просто выдумкой отдельных литераторов, а представляет собой искаженное отображение объективной действительности. И здесь также противоречия не из книг перешли в действительность, а, наоборот, из действительности в книги. Отсюда такая живучесть плоских традиций буржуазной культуры эпохи распада.