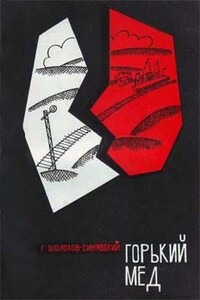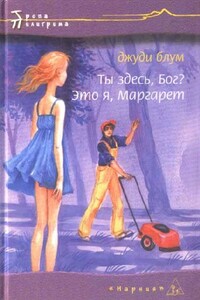Казачья бурса | страница 15
Все это было, конечно, данью мальчишеской глупости, серьезной сословной вражды между нами, детьми, в эту пору не могло быть. Обижало меня только малопонятное слово «кацап». Потом я узнал, в списке учеников против каждой фамилии стояла графа «сословие» и там значилось: «казак», «иногородний». Впервые в школе я узнал, что я — существо менее совершенное, чем, например, Сема Кривошеин, Афоня Шилкин или первый задира и драчун в классе Миша Белоусов. Ведь в их жилах текла «алая», казачья кровь… Об этом напоминали особое внимание к казачатам и поощрения со стороны попечителей и школьного начальства.
Не сразу предстала передо мной теневая сторона казачьей церковноприходской школы, ее елейно-жестокий бурсацкий режим…
Любимая учительница
Никогда не забуду ее рук, шелковисто мягких, всегда пахнущих каким-то особенным душистым мылом, ее длинных пальцев, бережно листающих учебники и тетради, не забуду проникающего в душу голоса, ровного, спокойного, иногда строгого, но никогда — раздражительного, грубого…
А ее глаза, всегда внимательные, всевидящие, с умным и зорким прищуром (Софья Степановна была немного близорука), некрасивое и вместе с тем полное обаяния скуластое русское лицо, уложенные на голове, в виде венка, русые косы, иногда повязанные простым бабьим платком, пенсне на шнурочке, пришпиленном обыкновенной булавкой к строгому серому платью с постоянно застегнутым наглухо воротником — разве может все это улетучиться из памяти?
Сколько раз ласковая рука Софьи Степановны ложилась на мою коротко остриженную, выцветшую под степным знойным солнцем до ковыльной белизны голову, и как часто глаза, ее с пристальным материнским любопытством останавливались на мне.
Она понимала, что мне, оторванному от отца и матери, жившему у чужих людей, было нелегко. Я часто скучал по родному дому… Вот мне весело, я бегаю на большой перемене с ребятишками по школьному двору, и вдруг откуда-то из переулка доносится мелодичный перестук ходов тавричанской брички. Мгновенно меня словно бьет током в сердце: «Отец… Едет отец!». Я выбегаю на улицу, прислушиваюсь, забыв обо всем на свете: сердце колотится в груди, как перепел в клетке, звонкий перестук брички все слышнее, и вот она вымахивает из переулка, запряженная парой сытых тавричанских коней. Я вглядываюсь в сидящих в люльке людей, надеюсь увидеть отца или хотя бы знакомых адабашевцев, но в бричке сидят незнакомые хохлы. Оставляя за собой шлейф пыли, она резво проносится мимо школы, к центру, хутора, к базару, где сосредоточены крупные магазины местных купцов.