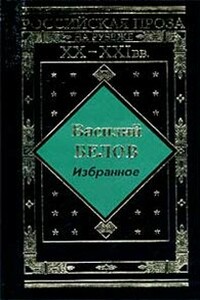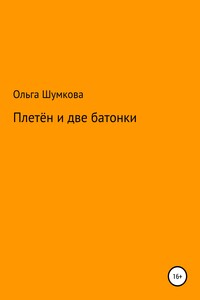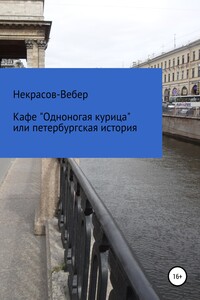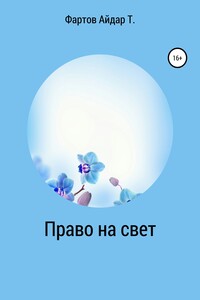Наш Современник, 2002 № 10 | страница 26
Четыре вдовицы к усопшей пришли.
Крича, бороздили лазурь журавли.
Сентябрь-скопидом в котловин сундуки
С сынком-листодером ссыпал медяки...
Образность и непохожесть этих строчек ни на какие другие поразили меня. Конечно, я немедленно забрал “Песнослов” к себе домой, чтобы читать и перечитывать клюевские стихи. А потом стал выяснять, пишут ли все-таки что-нибудь о поэте и его творчестве в наши дни, и узнал, что в Петрозаводске живет краевед А. К. Грунтов, который печатает статьи о Клюеве в журнале “Север”. Я послал туда на имя Александра Константиновича письмо с накопившимися у меня к тому моменту вопросами о поэте. Он ответил мне, и с тех пор началось наше тесное сотрудничество, продлившееся до последних дней жизни этого замечательного человека.
Летом 1980 года я поехал в Петрозаводск, чтобы повидаться с ним и побывать в клюевских родных местах (тогда я уже знал, что от Петрозаводска до Вытегры, где бывал и жил Клюев, можно добраться по Онежскому озеру всего за три часа). Все это осуществилось, и я вернулся домой, переполненный тем, что увидел и узнал на родине поэта.
Мой восторг “новообращенного” требовал выхода — им непременно надо было с кем-то поделиться. И тут случилось еще одно событие. Я приобрел вышедшие из печати ноты сочинений Свиридова на слова Есенина “Отчалившая Русь” и “Светлый гость”, еще нигде не исполнявшихся. Они вызвали во мне такие эмоции и раздумья, что я, ранее и не помышлявший о прямом обращении к композитору, начал писать ему письмо. Оно было закончено и отправлено в августе или сентябре 1980 года.
Вот это письмо; привожу его здесь (как и каждое из тех моих писем, о которых еще будет речь) по сохранившемуся черновику:
Глубокоуважаемый Георгий Васильевич!
Прежде всего, извините меня, Бога ради, за то, что я отрываю у Вас время. Я долго не решался написать это письмо, однако сейчас мне кажется долее невозможным обойтись без обращения к Вам.
Музыка Ваша, особенно хоровая и вокальная, уже давно стала частью моей жизни. Хотя и звучит это выражение в достаточной степени банально, оно — не фраза. Я убежден, что Ваши сочинения являются идеальным воплощением русской поэзии в пении, драгоценным сплавом русского стиха и русской музыки.
Очень трудно писать об этом, да и нужно ли? Можно ли перевести на язык прозы то настроение, которым проникаешься, когда слушаешь “Петербургские песни” или “Поэму памяти Есенина”, “Пушкинский венок” или “Душа грустит о небесах...”, “Голос из хора” или “Любовь святая”?