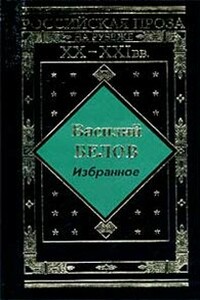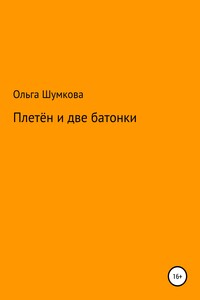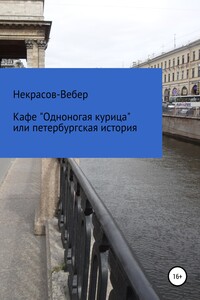Наш Современник, 2002 № 10 | страница 25
Этот детский знак внимания дошел тогда до адресата и очень его тронул. Правда, узнали мы об этом только через одиннадцать лет. Лишь в мае 1987 года, спустя пять лет после нашего личного знакомства, Эльза Густавовна Свиридова передаст мне пластинку с записью “бернсовского” цикла в исполнении А. Ведерникова и автора, на конверте которой, слева от изображения прекрасной склоненной головы Георгия Васильевича, я увижу его собственноручную надпись: “Светлане Субботиной с самыми лучшими пожеланиями. Г. Свиридов. 22. III. 76”.
В те же мартовские дни 1976 года Виктор Татарский, ведущий передачи “Встреча с песней”, прочел в ней мое письмо со словами сердечной признательности композитору. Оно было отправлено на радио еще в предъюбилейном ноябре 1975 года и заканчивалось просьбой дать в эфир свиридовский хор “Как песня родилась” на слова Сергея Орлова. Эта просьба была выполнена.
К тому времени музыка Свиридова не только дарила нашу семью праздниками концертов, но и прочно вошла в быт. В начале февраля 1976 года у нас родился второй ребенок — сын, и я помню, например, как в первые месяцы жизни младенца, укачивая его перед сном, напевал ему, как колыбельную, свиридовскую песню “В октябре” на слова Блока:
Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре.
Забытая лошадка бурая
Гуляет на дворе.
Снежинка легкою пушинкою
Порхает на ветру,
И елка слабенькой вершинкою
Мотает на юру.
Вообще русская поэзия, как и русская музыка, была очень близка мне с малолетства. В отрочестве и ранней юности я не расставался с оказавшимся у нас дома томиком стихов Тютчева. В начале и середине 60-х годов я, конечно, ходил на московские поэтические вечера, следил за появлением в печати произведений поэтов начала XX века, о которых почти ничего не говорилось в школьных и вузовских учебниках по литературе. У моих современников, входивших в жизнь в те годы, все их имена и на слуху, и в памяти...
Но среди них почему-то не было такого — Николай Клюев. Это имя можно было встретить, пожалуй, только в литературе о Есенине. В отличие от книг Ахматовой, Есенина и Пастернака, которые (при всех ограничениях) выходили и тогда, прочесть Клюева в современном издании в ту пору было невозможно: его имя находилось под негласным запретом.
Помог случай. В личной библиотеке одного из моих коллег по институту Анатолия Гулютина оказался двухтомник Клюева 1919 года “Песнослов”. Где-то в середине 70-х годов он попал мне в руки. Открыв вторую книгу “Песнослова”, я прочел: