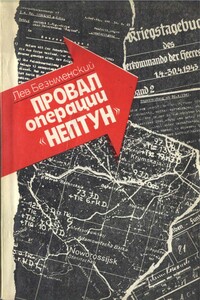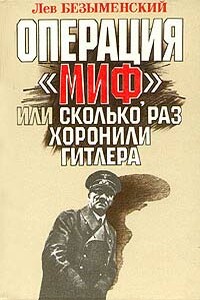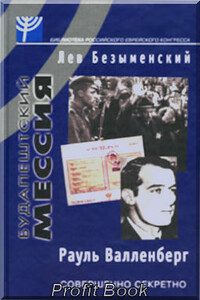Человек за спиной Гитлера | страница 10
Так случилось и с дневником Бормана. Дневник у военных политработников «перехватили» чины НКВД, немного подправили перевод, перепечатали на своей пишущей машинке и 22 июня 1945 года доложили Сталину, Молотову и Маленкову. Конечно, адресаты не вдавались в подробности и не знали, что к находке НКВД не имел никакого отношения. Зато стоял новый штамп архива Политбюро: «Особая папка, дело 394, страницы 32–48».
Так дневник попал на стол Сталина.
Очерк первый:
Владелец — Мартин Борман
Существует логика документа. Раз на его первой странице значится имя, следовательно, надо рассказать о человеке, носившем (или еще носящем) это имя. Кроме того, надо учитывать и такое обстоятельство: наверно, среди читателей будет немало людей, которые не знают о Бормане ничего. Исходя из этого, я и приступаю к изложению, которое хотел бы назвать так: «Как становятся военными преступниками?». Ответ на подобный вопрос немаловажен, ибо — на самом деле — кто были те люди, о которых мы сейчас стализабывать, но которые двенадцать лет определяли судьбы Германии?
Однажды Борман (это было в 1937 году) заполнил краткую анкету.
Фамилия, имя Партийный номер Дата вступления Звание, номер в СС
Нынешнее занятие Протестант, католик, верующий.
Сразу можно задуматься: Борман, это воплощение нацистского духа, — и вступил в нацистскую партию лишь в 1927 году! А где номер в СС?[2] Вопросов много — тем интереснее нам будет заняться выяснением некоторых обстоятельств его жизни. Для этого перенесемся в 20-е годы.
…Многие историки фашизма пытаются найти географическое «место рождения» национал-социалисти-ческого движения. При этом чаще всего их взоры устремляются к Баварии, к Мюнхену, где была создана НСДАП. Однако «баварская теория» происхождения германского фашизма далеко не охватывает как географические, так и социальные корни нацизма. Было бы ошибочным не заглянуть в другие уголки тогдашней Германии, где в самых различных и подчас уродливых формах вызревали ростки будущего господству-ющего режима. Есть много оснований направиться не только в Баварию, а, скажем, в Рур — в Дюссельдорф, Эссен, в бюро господ Кирдорфа и Тиссена. Это мы сделаем позже. А сейчас мы хотели бы привлечь внимание читателя к одному уголку Германии, который всегда считался самым заброшенным и глухим.
Едва ли найдется историк, который стал бы говорить о решающем воздействии провинции Мекленбург на судьбы Германии 20-х и 30-х годов нашего века. О Мекленбурге всегда писали в последнюю очередь. Это объясняется не только бедностью мекленбургского ландшафта и нищетой мекленбургских крестьян, но и тем, что подлинные хозяева Мекленбурга всегда старались оставаться в тени. Мекленбург был одним из классических районов юнкерско-помещичьего землевладения. Если где-либо в Германии еще оставались пережитки военно-феодального режима, то в Мекленбурге они проявлялись наиболее ярким образом. Юнкерское владычество в Мекленбурге отлично уживалось с буржуазным. Замена кайзера на республиканское правительство была воспринята мекленбургскими землевладельцами как дело вполне закономерное. Однако они принимали все меры для того, чтобы начавшийся процесс не перехлестнул заданные рамки. Здесь им огромную, поистине неоценимую помощь оказала кайзеровская армия.