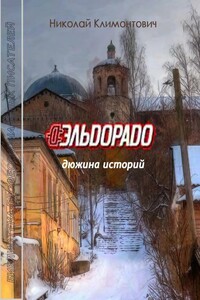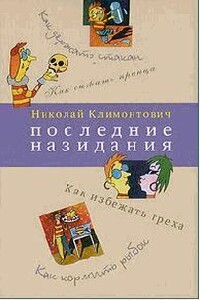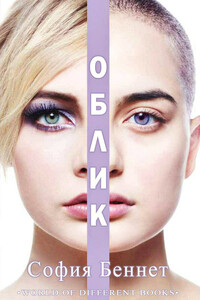Дорога в Рим | страница 25
Представление состоялось так: мои родители отбыли на летний отдых, и я остался один (бабушка моя к тому времени уже умерла) — блаженствовать в большой квартире, как позвонила Танька и, уяснив обстановку, сказала, что заглянет с приятелем. О времени мы точно не сговаривались, я выходил куда-то и был очень удивлен задыхающемуся от волнения ее голосу в трубке — где же ты! Они были у меня через четверть часа, мы с Витольдом пожали друг другу руки, и я был порадован франтоватостью его костюма, скромным достоинством манер, умеренностью в потреблении алкоголя и уж вовсе подкуплен чинным разговором за ужином — о литературе, и только после Танька рассказала мне, что они звонили несколько раз, и Витольд сказал, что бодяга ему надоела и что эту квартиру, он, пожалуй, сожжет. Он и сжег бы, убежденно заверила меня Танька.
Они остались ночевать, но утро пошло уж не так фасонисто: проснувшись и выйдя на кухню, я застал Витольда в одних трусах, — тело его было густо покрыто свинцово-трупной татуировкой, как чешуей хвост русалки; Танька сидела здесь же, с голыми тощими ногами, стягивала зябкими ручками на плоской своей груди порванную до пояса нейлоновую комбинацию, и каждой жилкой и складочкой похожей на мордочку грызуна — белки или бурундука — мордашки следила за всяким движением своего повелителя; Витольд хлебал прямо из кастрюли оставленный мне матерью суп, запивал водкой, взятой в моем холодильнике, и кивнул мне вполне дружески, указывая ложкой, — мол, присаживайся, и даже чуть двинул от себя на середину стола кастрюлю, напоминавшую ему, должно быть, котелок на дальнем участке лесоповала. Таньке ни водки, ни супа не полагалось, даром что Барабан, впрочем, замечу, я никогда больше не видел Витольда в столь умиротворенно-домашнем облике, расслабившегося и примиренного — видно, в то утро и он к Таньке испытывал мужскую признательность и, чем черт не шутит, что-нибудь похожее на неж-ность.
Трудно объяснить отчего, но Витольд с того дня проникся ко мне симпатией. Вряд ли это было из-за Таньки, по которой, и это ему было, конечно, очевидно, мы были-таки с ним молочными братьями, он не был настолько сентиментальным, хоть и это имело значение; может быть потому, что, как выяснилось позже, Витольд тайком писал стихи, а я был, хоть и начинающий, но литератор; наконец, здесь играла свою роль и обычная у воров тяга к интеллигенции, какое-то смутное к ней уважение, какого не бывает у простого люда, не прошедшего зону. Нет, симпатия — это даже мягко сказано, Витольд записал меня в кореша, что, признаюсь, не всегда было уютно при его свирепом и непредсказуемом нраве. Скажем, можно припомнить такую сценку: раз мы сидели всё в той же «Метелице», как появился ошивавшийся здесь что ни день гроза местной шпаны, парень моего возраста, но выше меня, очень хорошо сложенный и с какой-то инфернально-кинематографической внешностью — по кличке Шоколад; он был бы очень красив, если б не постоянное мучительно-брезгливое и жестокое выражение, не сходившее с его лица, выдававшее непроходящее больное желание кого-нибудь мучить и унижать, как унижали и мучили, должно быть, его самого в лагере, о чем, впрочем, однозначно свидетельствовал сам присвоенный ему псевдоним; не дойдя до нас двух столиков и не видя нас, Шоколад нагнулся вдруг к каким-то девицам и ни с того ни с сего плюнул одной в лицо; та закрылась руками, а подруга ее, должно быть, что-то сказала, потому что Шоколад без размаха ткнул ей в рожу кулаком; вокруг все стихло, и тогда Витольд негромко произнес то, что он произнес, и Шоколад отлично услышал его: ну ты, опущенный, сказал Витольд, и ничего не прибавил; Шоколад быстро обернулся, физиономия его мигом подобострастно скорчилась, и, став ниже ростом, он пошел к нам, твердя: что надо, Витя, я принесу, что надо; Витольд сделал знак, чтоб тот нагнулся к нему, Шоколад опустился на корточки, и Витольд коротко и резко ударил его ногой в грудь так, что на пиджаке и белой рубахе хорошо отпечаталась подметка; Шоколада отбросило метра на два, а там уж он сам картинно повалился на спину.