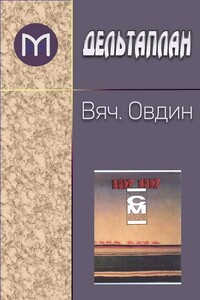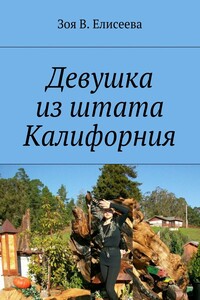Штрихи к портретам и немного личных воспоминаний | страница 59
Несмотря на всю эту политическую чехарду, вторая половина 20-х годов оказалась для Тарле счастливой. До Академии наук у «партии» руки еще не дошли. Там царило дореволюционное большинство во главе с другом Тарле — непременным секретарем принцем С. Ф. Ольденбургом, и эта истинная Академия почтила Тарле сначала избранием в члены-корреспонденты (1921), а затем и в академики (1927). Почти каждый год он выезжал в научные командировки в Европу. И наконец, в эти годы он создает одно из самых выдающихся своих произведений «Европа в эпоху империализма. 1871–1919», вышедшее двумя изданиями подряд (1927 и 1928). Слово «империализм» было им употреблено, чтобы сделать книгу проходной. На самом деле, марксизмом в ней и не пахло, а ленинская брошюра на эту тему лишь бегло упомянута в одном из примечаний.
Книга эта произвела огромное впечатление в обществе. Впервые за много лет серьезный читатель в империи получил неидеологизированное, увлекательное как детектив изложение событий европейской истории, многие свидетели которых были еще живы. Но этой же книгой Тарле вторгся в ту «заповедную» эпоху, которая находилась в «монопольном владении» историков-марксистов, что переполнило чашу их терпения. Кстати, по той же причине уже потом, когда Тарле был в почете, этот шедевр исторической прозы все же продолжал находиться в числе «забытых книг» и переиздавался только за рубежом.
А тогда Тарле стали «монтировать» в «Промпартию», но, вероятно, не успели доработать сценарий, и арестован он был 29 января 1930 года по «академическому делу». К этому моменту появилась и первая книга о творчестве Тарле. Она называлась «Классовый враг на историческом фронте» (авторы — «партийные» евреи Г. Зайдель и М. Цвибак). Прошли «гневные митинги» в университетах, бывшие ученики и друзья изобрели бранное слово «тарлевщина», и оно пошло гулять в прессе.
Формированию «академического дела», помимо причастных к этому процессу по службе, активно помогали люди, готовые занять места, освободившиеся в результате ареста и ссылки десятков выдающихся ученых. Вот, например, воспоминания арестованного в 30-м году «за компанию» младшего научного сотрудника института истории, впоследствии дожившего до 100-летнего юбилея академика Н. Дружинина, которого на допросе спросили о «старых профессорах»:
«— А вы знаете, что они питают вражду к советскому строю?
— Зная монархические убеждения Платонова, Любавского, Яковлева и др. воспитанников государственной школы и некоторые их публичные заявления, я не мог не согласиться…