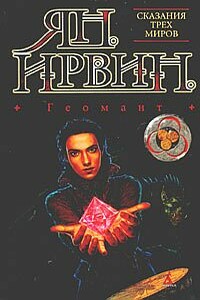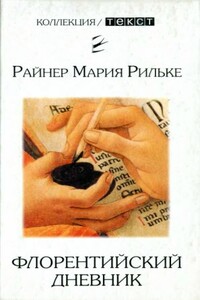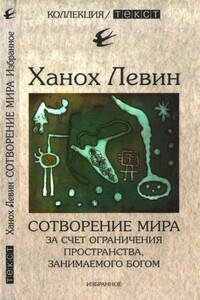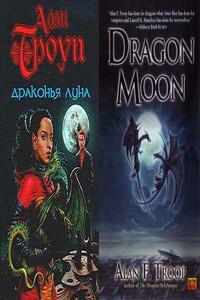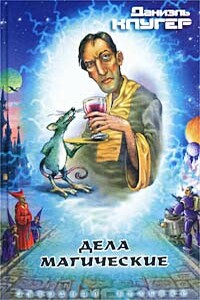Баскервильская мистерия | страница 101
Непременным, впрочем, оставалось одно: если Защитник, материализация надежд обывателя, гибнет — он увлекает в тот же мир смерти и своего противника, олицетворяющего наш иррациональный страх перед насилием. Ибо нельзя у читателя не должна была оставаться в памяти картина мира, деформированного насилием, и не может он, читатель, среднестатистический член общества, лишившись надежды, оставаться один на один со своими страхами. Детектив, как жанр консервативный, охранительный, одной из метажанровых целей имел возвращение окружающей действительности состояние гармонии — хотя и вполне иллюзорной, на самом деле, — а человеку — чувство безопасности.
Когда же оказались сорваны (а вернее, сами собою сошли) маски, когда не только преступления, но и действия по их раскрытия-предотвращению в романах обрели законченно иррациональный характер, когда повествование вернулось к парадигме черно-белой Игры, по сути — когда «подсознание текста» заняло место собственно сознания и заговорило на языке мифологических архетипов, своей структурой заменив фабулу, — гибель сыщика, во-первых, перестала восприниматься нарушением жанрового канона, а во-вторых, не влекла за собою гибель его противника. Иными словами, детектив перестал служить тем, чем служил в начале — средством от страха.
Игра, как и современный капитализм, a priori предполагает «равные возможности для каждого». Шансы на выигрыш равны у обеих сторон. Мало того, самоуверенность сыщика — вполне объяснимая в контексте отношений «истинный царь — самозванец», «Соломон — Асмодей» — играет подчас с «игроком по эту сторону доски» злую шутку. Он дает противнику фору — соглашается играть по его правилам. И проигрывает.
В подтексте тут происходит полное отождествление «близнецов», подобно имеющему место в мифах; собственно же текст объясняет это некоей виновностью главного героя, относящейся к предшествующим событиям. Весьма характерен, можно сказать, образцово характерен для подобного толкования метаморфозы сыщика все тот же роман Гранжье «Пурпурные реки». Его стоит рассмотреть подробнее, поскольку он наталкивает на выводы неожиданные и предлагает решения нетривиальные.
В крохотном горном городке Герноне происходит серия загадочных убийств, имеющих признаки ритуальных, и для расследования их и поиса преступника или преступников в Гернон из Парижа направляется комиссар полиции Пьер Ньеман. Для начала присмотримся внимательнее к месту действия. Вот как описан Гернон, вернее, вот каким его впервые видит Ньеман: «Здесь царила мрачноватая атмосфера, где красота природы не в силах скрыть безнадежную заброшенность…» При том, Гернон — университетский центр, обитель науки и знаний. И тем не менее: «Комплекс больших современных бетонных зданий в окружении длинных унылых лужаек. Ньеману представился туберкулезный санаторий, огромный, размер с небольшой город…» Впечатление неслучайно — чем дальше, тем больше читатель убеждается в том, что старый, уважаемый рассадник культуры давно превратился в рассадник чудовищной эпидемии вырождения. И окружает его великое Белое Безмолвие — ослепительно сверкающие ледники, грозные и молчаливые, царство смерти, неизбежно настигающей всех или почти всех героев «Пурпурных рек».