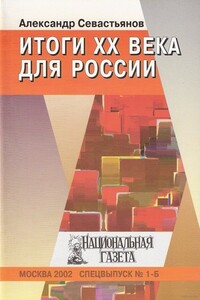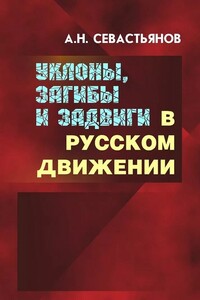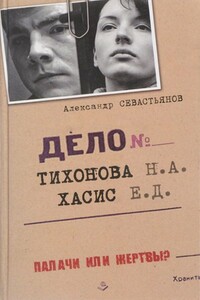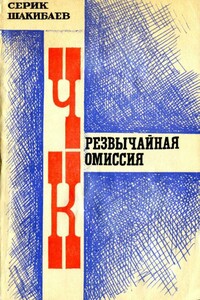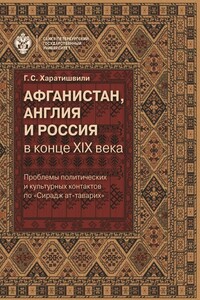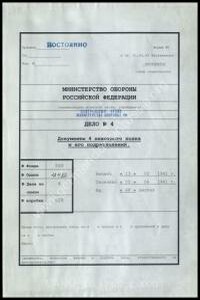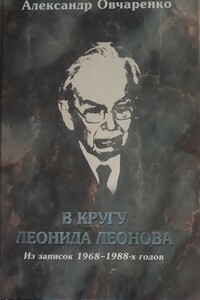Компендиум | страница 52
В чем смысл жизни человека?
Если говорить о едином для всех людей, общем смысле жизни, то он может иметь только сугубо биологическое значение, вложенное в нас, в нашу жизнь самой Природой: выжить самому и оставить по себе жизнеспособное потомство в максимальном количестве. Никакого иного общего для всех смысла жизни нет.
Если же говорить о смысле жизни конкретного индивида, то этот (помимо биологического) смысл жизни проясняется только после его смерти, и то не весь и не сразу. Только post mortem мы, сторонние наблюдатели, можем сказать, что смысл жизни покойного NN состоял в том-то и том-то. Эта сумма личности может с годами изменяться и переоцениваться (без малого триста лет спорят о смысле жизни Петра Великого, две тысячи лет спорят о Христе и т.п.). Так обстоит дело, если подходить к смыслу жизни NN объективно. А субъективно для него смысл жизни состоит в том, чтобы найти себя и быть собой - и тем приблизить к оптимуму тот самый объективный смысл. Поиск себя может быть успешным или неуспешным («лишние люди» в русской литературе), а может и вовсе привести к абсурду - мало ли кто о себе что думает и кем себя считает! Принимать это всерьез не стоит. Как писал Чехов: «Была огромная жажда жизни, а ему казалось, что хочется выпить». Это уж как кому… Но в любом случае объективный результат прояснится лишь посмертно.
В чем же смысл жизни нации, если брать ее как коллективную личность?
Тут я вижу полнейшую аналогию с вышесказанным.
Нелепо даже ставить вопрос о некоей провиденциальности в коллективно-личной судьбе этноса: вот, мол, к чему предназначены немцы, евреи или русские. О том, к чему мы были предназначены, пусть ломают копья историки, когда немцев, евреев или русских уже не будет на Земле. Как ломают они копья по поводу египтян, эллинов, римлян или майя.
А мы, пока живы, должны сосредоточить усилия на трех направлениях.
В первую очередь , решать задачи своего биологического выживания, сохранения и преумножения.
Во вторую очередь - решать метаполитическую задачу расширения своего коллективного этнического царства «Я - могу». Во всех отношениях: демографическом, территориальном, военном, экономическом, культурном и т.д. Такова сверхзадача всего живого.
В третью очередь , нам надо самым внимательным образом изучать собственное своеобразие, искать в себе не «общечеловеческие» черты («общечеловеки» никому не интересны и не нужны), а свои национальные, особенные. И выстраивать свой образ жизни и деятельности под это своеобразие. Тут уместно сослаться на пример японцев. Сегуны Токугава на 300 лет закрыли страну от внешнего мира. За эти годы японский национальный характер выварился в самом себе, кристаллизовался, закалился и, что самое главное, был осознан японской нацией как ценность и ресурс. Именно поэтому, открывшись для мира после «революции Мэйдзи» в 1867 г., Япония молниеносно (по историческим меркам) освоила европейские и мировые достижения, обогатив их национальным колоритом и модернизировав по-своему, по-японски. Результат всем известен: Япония пока что единственная азиатская страна, входящая в Большую Семерку. Не считая приближенной к этому кругу России, конечно.