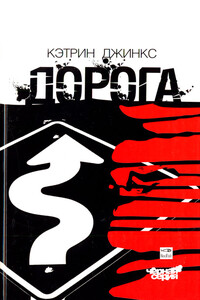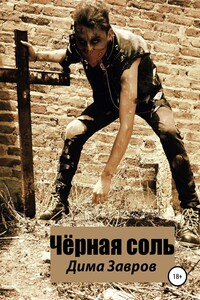Сайонара, Гангстеры | страница 31
Я размышлял о разных видах мертвого.
Мне виделось нечто ужасно печальное в парке аттракционов, нечто саднившее душу.
Гигантское «Чертово колесо» с огромной траурной перевязью вращалось, поднимая качавшиеся люльки.
Хозяин парка аттракционов решил, что заводить его по окончании сезона будет накладно, для этого придется вызывать специалистов, и приговорил «Чертово колесо» к самоубийству.
Оно не могло ослушаться хозяина.
В этот момент я сидел на качелях и наблюдал смерть аттракциона.
Колесо продолжало вращаться и бултыхающиеся в воздухе люльки, в которых прежде сиживали посетители, отбрасывались одна за другой. Всякий раз при этом брызгала кровь и раздавался крик боли. «А-а-а! — скрипело колесо. — Как это больно!» Как только слетела последняя люлька, колесо стало раскладываться, рассекая себя в центре, после чего каменные опоры стали отделяться от оси.
Брызгая кровью по сторонам, как из вскрытых артерий, «Колесо-Гигант» продолжало неостановимую работу самоубийства, сопровождая каждый шаг саморазрушения криком, от которого содрогался парк.
Карусель по соседству испуганно зажмурилась, зажав уши лапками спинок сидений. Наконец осталась всего одна опора, вросшая в землю. Учащенно дыша, она агонизировала Уже ничто больше, кроме этой опоры, не напоминало о существовании аттракциона — она была эго, сущностью «Чертова колеса».
Я наблюдал, чем же все кончится.
Больше ничего не оставалось, как:
— Пришел мне карачун!
С последними горькими словами опора вырвалась из земли, и все провалилось в небытие.
«Чертово колесо» сделало это способом, немыслимым для человека.
4
Становилось то темнее, как будто спускались сумерки, то вдруг снова начинало светлеть.
Должно быть, сильный ветер в высоком небе относил в сторону легкие солнечные лучи.
Книга Песен погрузилась в размышления, голова ее по-прежнему покоилась на моем плече.
Думала ли она о мертвом, как я, или же о гангстерах, или о своих прежних возлюбленных, или еще о чем-то другом, о чем я даже помышлять не мог, — не имею представления и не могу дать себе в этом отчета.
Не знаю.
На ней была моя рубашка.
Мешковатая, изношенная, с пузырями на локтях и полинялым истершимся воротом. Под рубашкой у Книги Песен не было ничего. То есть совершенно. Само собой, и лифчика. Это я попросил ее так одеваться. Расстегивая ей бюстгальтер, я ощущал себя преступником, даже святотатцем, покушающимся на сокровенное, и поэтому умолил ее пойти на уступку.
Книга Песен с обнаженным бюстом вселяла в меня чувство умиротворения. Я знал в совершенстве ее груди, их форму, цвет, размер, мягкость и вкус. Они не слишком большие, ее грудки, но у них совершенные очертания. Они, точно две чаши, всегда сохраняют форму — наклоняется она вперед или откидывается назад, встает или садится, — они остаются теми же.