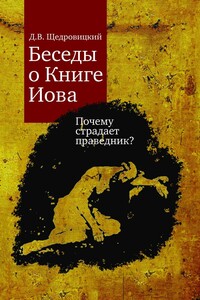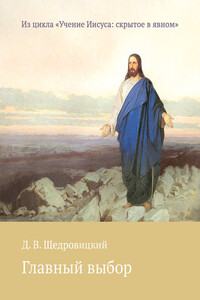Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э. | страница 17
И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот сон. (Дан. 2, 3)
В оригинале оттенок мысли иной: дух царя тревожится (то же слово в стихе 1 переводится как «возмутился»), «чтобы познать» (???? <лада?ат>) этот сон. То есть его дух (??? <ру?ах>) как бы бьется, стучится в закрытую дверь духовного мира (глагол ????? <ґитпаэ?м> – см. выше), ибо знает, что сон имеет очень важное значение.
... Согласно библейскому учению о духовно-душевном устройстве личности, ??? <ру?ах>, «дух», занимает среднее положение между ???? <нешама?> – бессмертной высшей душой человека (см. Прит. 20, 27: «„нешама"... испытывает все глубины сердца») и ??? <нэ?феш> – душой, оживляющей тело (см. Лев. 17, 11: «душа [нэ-феш] тела в крови»). Таким образом, ??? <ру?ах> посредствует между высшим, духовным, миром и низшим, вещественным. Вот почему именно «руах» «стучится, чтобы познать» показанные, но не разъясненные ему во сне духовные тайны.
На просьбу всех вызванных гадателей рассказать содержание сна (ст. 4) Навуходоносор отвечает, что знание сна (арамейское ???? <мильта?> означает «слово», в данном случае – способность рационально изложить свой сон) «отступило» от него (начиная с Дан. 2, 4 и до конца 7-й главы повествование ведется по-арамейски). Испытывая своих мудрецов, царь требует, чтобы они, пользуясь своими необычайными способностями, изложили ему и содержание, и смысл сна, угрожая в противном случае казнить их и разрушить их дома, т. е. истребить их семейства (Дан. 2, 4–9). Чародеи, после долгих споров и возражений царю, признались, что
...Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю... (Дан. 2, 10)
Ведь ни один царь еще не требовал такого от своих мудрецов! Подобное предприятие, по словам вавилонских тайноведцев, доступно лишь для «богов, которых обитание не с плотью» (ст. 11). Эти «боги» (по-арамейски ????? <элаґи?н>) – высшие духи, не отягощенные телесной жизнью (которая традиционно рассматривалась как некая «завеса», скрывающая тайны духовного мира; ср. Евр. 10, 20) и поэтому проникающие во все скрытое. Смертным же это, мол, недоступно. Такое признание языческих духовных авторитетов в своей слабости разительно контрастирует с дальнейшей деятельностью Даниила как пророка, посланного истинным Богом и проявляющего удивительную духовную силу в пересказе и истолковании данного сна (Дан. 2, 26–28).
... Вернемся к стиху 4: почему отсюда и до конца 7-й главы текст не древнееврейский, а арамейский? Арамейский был вторым государственным языком (наряду с аккадским) в последний период существования Ассирийского царства, а затем – в Вавилонии. Он стал главным общеимперским языком и в Мидо-Персидском царстве. Представляется исторически достоверным, что Даниил, занятый государственными делами как в Вавилоне, так впоследствии и в Сузах (см. 8, 27), где делопроизводство велось на арамейском языке, пользовался в те годы привычным, повседневным арамейским и при написании данных глав своей книги. Первая же ее глава (и первые стихи второй), написанные в ранние годы, как и заключительные главы, изложенные в старости, записаны на отечественном языке пророка – иврите...