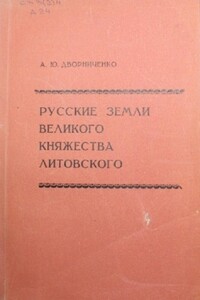Древнерусское общество и церковь | страница 23
Какое же место в материальном обеспечении церкви занимала земельная собственность? Многие историки прошлого и совсем недавнего времени считали, что уже Владимир и Ярослав предоставили митрополиту право владеть землями, а в последующее время церковное землевладение на Руси стало обширным сектором феодальной экономики. Однако исследования последних лет показали, что землевладение христианской церкви на Руси было незначительным. Данные источников сводятся лишь к немногочисленным упоминаниям о монастырских селах. Это неудивительно, ведь в Киевской Руси и светскую вотчину можно уподобить островкам в море свободного общинного землевладения, как отмечает И. Я. Фроянов. В домонгольский период землевладение еще не стало основным источником существования русской знати. Больше всего у нас сведений о зависимом от церковников населении. Древнерусские источники знают изгоев, которые передавались церкви. Например, упоминавшаяся уже грамота Ростислава Мстиславича смоленской епископии содержит данные о двух селах, которые получала церковь Богородицы «со изгои и з землею». Изгои — это выкупившиеся на волю, холопы, которые продолжали оставаться под властью и защитой своего владельца. Изгоями могли становиться и выходцы из свободных слоев: разорившиеся купцы, необученные грамоте поповичи, князья-сироты. Одни изгои шли от несвободы к частичной свободе, а другие совершали обратный путь. Как бы то ни было, изгоев нельзя назвать феодально-зависимым населением — они полусвободные.
К зависевшему от церкви населению принадлежали и «пущенники». Можно предположить, что «пущенники» — это отпущенные на волю рабы безденежно, по доброй воле господина. Когда раба отпускали на волю ради спасения души, он становился «задушным» человеком, т. е. «задушные» люди — один из разрядов «пущенников». Здесь также бросается в глаза промежуточность социального положения этой категории зависимого населения. То же можно сказать и о «прощенниках» — вольноотпущенниках фиска (государства). Все эти люди вырвались из рабской неволи, но не имея органической связи с местной общинной средой, оказывались довольно легкой добычей для всех, кто подыскивал себе рабочую силу. Чаще всего в роли такого добытчика оказывалась церковь. «Обилие терминов, обозначающих полусвободный люд (изгои, задушные люди, пущенники, прощенники), свидетельствует о многочисленности категорий полусвободного населения, вырвавшегося из рабства. Но это многообразие промежуточных форм — признак не умирающего, а жизнеспособного рабства», — пишет И. Я. Фроянов. Действительно, рабство развивалось в Киевской Руси по восходящей линии. И церковь, отнюдь, не была тормозом в этом развитии, как думали некоторые видные историки (В. О. Ключевский, А. П. Щапов). Церковники владели рабами, которые на Руси назывались челядью и холопами. «Холоп черньцевы», т. е. монастырский — не случайный гость на страницах Русской Правды