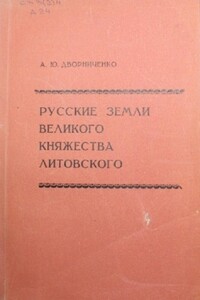Древнерусское общество и церковь | страница 16
Во многом аналогичной представляется картина социальных противоречий 50-х — 60-х годов на русском Северо-Востоке. Летописец тщательно пытается завуалировать истинную причину событий, выдвигая на первый план спор о постах. Все же мы узнаем, что «выгнаша ростовцы и суздальцы Леона епископа» не столько за его «ересь» о постах, сколько за то, что он обогатился, «церковь грабяи и попы». Его преемник «лживый владыка Феодорец» в 1169 г. был «извержен» из «всей земли Ростовской» также из-за своей алчности, «хотя исхитить от всех именье» и был «ненасытен, как ад».
Против такого подрыва авторитета христианской церкви выступали и некоторые священнослужители. От практики «исхищения» имений и «безмилостивных» мучений пытаются отмежеваться Клим Смолятич и Кирилл Туровский. Они осуждают такие «недостоинства» церковных иерархов. Это было начало борьбы русской церкви за свою «нравственность». Перешагнув XII в., она вылилась в антифеодальное движение антитринитариев, нестяжателей, в ереси Башкина и Косого. В Древней Руси эти выступления развития не получили, принимая лишь декларативную книжную форму. В Киевской Руси народные массы приводились в движение против обогащения «князей церкви» не призывами к соблюдению христианской морали, раздававшимися с кафедр, а нарушениями норм их обыденной практики, обусловленной традиционными отношениями. По-видимому, такое сопротивление приводило к некоторому ограничению самостоятельности церкви. О некоторых русских епископах сообщается в дальнейшем, что они не «собирали богатств от других домов», были «смиренны и кротки речью и делом». В других случаях, как это было в Новгороде в 1228 г., вместе с архиепископом «простая чадь» — вечники «сажали» своих представителей. Кроме факта ограничения власти епископа данный пример свидетельствует еще и о том, «что люди тех времен видели в должности архиепископа не только должность чисто духовную, но и мирскую, общественную», — замечает И. Я. Фроянов. А житницы святой Софии представляли собой «страховой фонд новгородской общины, подобно храмовым богатствам древних обществ». Грамоты новгородских иерархов более позднего периода говорят о неприкосновенности церковных судов и вотчин. Очевидно, было вмешательство городской общины и в эту область.