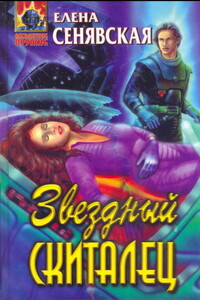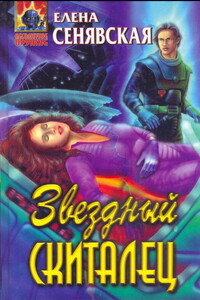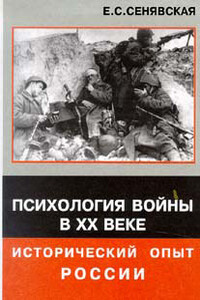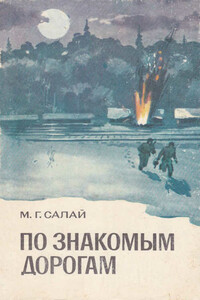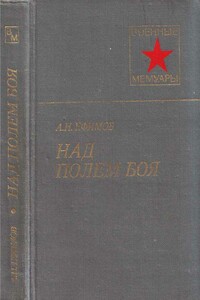Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России | страница 70
В данном случае особо следует подчеркнуть, что вся эта большая человеческая масса явно находилась в состоянии аффекта, когда, забыв об имевшемся у них оружии, люди дрались голыми руками и крушили ими вражеское железо. Психологи определяют аффект как «сильное и относительно кратковременное нервно-психическое возбуждение — эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств». Он развивается в критических условиях при неспособности человека найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданных ситуаций. Формами проявления аффекта как крайнего душевного волнения могут быть ужас, оцепенение, бегство, агрессия, ярость, гнев. При этом для данного состояния характерно сужение сознания, при котором внимание целиком поглощается породившими аффект обстоятельствами и навязанными им действиями[156].
Таким образом, многие формы и героического порыва, и паники в экстремальных условиях войны носят в себе ярко выраженные симптомы состояния аффекта. Его механизмы в целом универсальны для человеческой психологии, особенно в групповых, коллективных, массовых проявлениях в боевой обстановке. Однако конкретные побудительные мотивы, запускающие этот механизм, могли быть весьма специфическими в конкретных войнах и зависеть не только от конкретно-исторической, но и от социо-культурной ситуации. Например, если боевое знамя на протяжении всего XX века (и много ранее) оставалось общепризнанной символической ценностью, утрата которой покрывала несмываемым позором воинскую часть и та в результате подлежала расформированию, то икона — религиозный символ-ценность — являлась таковой только в период высокой социальной значимости религиозных институтов, поддерживаемых государством. Соответственно утрата или необходимость защиты в бою этих символов-ценностей могла стать мощнейшим побудителем позитивных массовых аффектов — героического порыва, экстаза атаки и т. п.
Роль аффектов вообще весьма велика в любых вооруженных конфликтах. Даже за, казалось бы, одним и тем же явлением, оцениваемым обществом как безусловно позитивное действие, в экстремальных условиях войны могут стоять различные механизмы. Например, подвиг может стать результатом как сознательного волевого выбора человека, трезво оценивающего ситуацию, возможные последствия своих действий, готовности к самопожертвованию, так и аффективного, бессознательного порыва, импульсивного действия под влиянием очень различных обстоятельств. Здесь может иметь место и аффект массового «психического заражения» в момент атаки, и вспышка отчаяния в безвыходной ситуации, и даже страх. Поэтому стоит четко различать собственно психологические механизмы деятельности людей в боевой обстановке и их результаты, которым общество придает тот или иной социально-ценностный смысл. При этом, конечно же, в управлении войсками, а следовательно, и в их воспитании, прежде всего морально-психологической подготовке, приоритет обоснованно отдается сознательно-волевым качествам воинов. Это позволяет свести к минимуму негативные виды аффектов (страх, паника и т. п.): устойчивость к вовлечению в состояние аффекта зависит от уровня развития моральной мотивации личности и ее способности к сознательной саморегуляции.