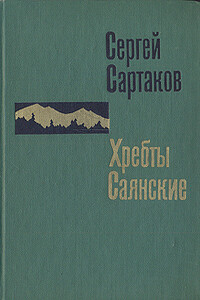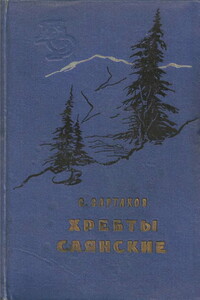Пробитое пулями знамя | страница 109
Уставший до чертиков, Лакричник с вокзала домой возвращался посвистывая.
22
После того как Мирвольский остался один, он долго не мог опомниться. Все, что не раз говорил Алексею Антоновичу Лебедев, все, с чем он сам за последнее время был безоговорочно согласен, теперь куда-то отошло, растворилось в той душевной сумятице, которая сложилась у него при расставании с Анютой. И оставалось несомненным только одно: Анюта уехала. Опять надолго. И может быть, теперь навсегда. Не будет счастья. И не будет любви. Потому что люди живут короткий век, а молодость у них и еще короче.
По обеим сторонам улицы бесконечно тянулись темные дома. Ставни закрыты наглухо. Хрустит под ногами промерзший снег, зло посвистывает ветер в щелях заборов да за спиной слышны безразличные ко всему железные шумы станции.
С кем, с кем поделиться своей тоской, своим одиночеством? Вернуться скорее домой и рассказать обо всем матери? Рассказать так, как сейчас в голове: путано и безысходно… И разложить свое горе на двоих? Мать сразу ответит ему: «Да, Алеша, в этом больше всего я виновата, я не сумела в тебе раньше воспитать мужчину, борца, я слишком долго тебя берегла». Это давно уже стало укором ее совести. Зачем же снова растравлять ей раны? Он сам, один должен разобраться во всем! Пусть в тысячеградусном огне перекипит его сердце, но эту боль он должен вытерпеть и вернуться домой более спокойным, нежели вышел из дому.
Вдруг Алексей Антонович остановился. Он поравнялся с домом Ивана Герасимовича. Чудесный, светлой души старик. Видит жизнь всегда просто, все темное, мрачное, пустое отбрасывает прочь, и жизнь в его понимании, как сам он называет, «находимая радость».
Поздно. Ночь. Но Иван Герасимович не рассердится, если даже поднять его с постели.
Алексей Антонович долго постукивал в ставень. Иван Герасимович открыл сенечную дверь Мирвольскому заспанный, накинув зимнее пальто прямо поверх нижнего белья. Спросил встревоженно:
Случилось что-нибудь в больнице?
Но когда Алексей Антонович, его успокоил и сказал, что хочет только две-три минуты поговорить с ним о сугубо личном деле и очень извиняется за ночное вторжение, Иван Герасимович смутился своего неприличного вида и, посадив Мирвольского в комнате у окна, сам убежал в спаленку одеться.
Не могу, не могу, Алексей Антонович, у меня уши не будут слышать, если я перед вами стану сидеть, извините, в кальсонах.
Он копался довольно долго, звенел какими-то скляночками и появился причесанным и одетым по всей форме, даже с повязанным галстуком.